Повесть о Рубене
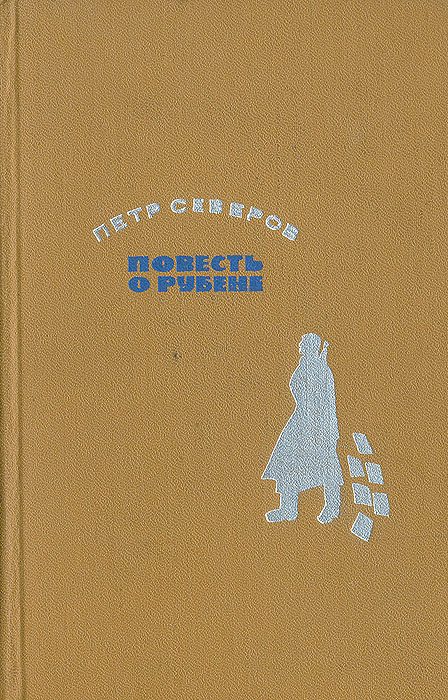
СОЛДАТ — РУБЕН ИБАРРУРИ
Никогда не думал мальчик из шахтерского поселка Соморростро, затерянного в горах Басконии, что о нем будет написана книга.
В шахтерских семьях басков еще в 20—30-х годах нашего столетия книга была редкой гостьей. Конечно, кроме библии и молитвенников — эту «литературу» католические «спасители душ» исправно доставляли в рабочие поселки.
Но и в те годы вопреки диким вымыслам монархической и буржуазной прессы передовые рабочие Испании знали правду о победе Великой социалистической революции в России и жадно тянулись к этой правде, ловили каждое слово о жизни и борьбе советского народа.
Революционную книгу в нашу семью принесла мать. Мне никогда не забыть, Как поздними вечерами в нашем тесном и бедном жилище собирались рудокопы окрестных шахт, рассаживались на скамьях, а мать придвигала карбидную лампу и раскрывала книгу. На этих тайных встречах шахтеров в тишине, настороженной и чуткой, торжественно звучали имена:
— Маркс... Энгельс... Ленин.
Еще девочкой я запомнила фразу, которую шахтеры повторяли как заповедь: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма...» Позже я узнала, что так начинается «Коммунистический манифест».
Мать училась настойчиво и упорно, и не счесть тех бессонных ночей, которые она отдавала книгам. Она была нашей доброй наставницей, терпеливой учительницей жизни. Еще в детском возрасте мой старший брат Рубен и я понимали, что книги делятся на две категории: живые и мертвые. Ко вторым относились библия и молитвенники, с их заклинаниями, проклятиями, угрозами и загадочными словами, а живые призывали трудовой народ к борьбе за свои человеческие права, против гнета эксплуататоров — шахтовладельцев, помещиков, иностранных акционеров, заводчиков.
Не удивительно, что, следуя примеру матери, Рубен еще мальчиком включился в революционную борьбу. Он был не один: таких было много. Ребята с рабочих окраин, с заводов и шахт распространяли коммунистические листовки и газеты, охраняли подпольные собрания коммунистов, собирали добровольные взносы в помощь политическим заключенным, а в суровую пору фашистского мятежа, когда вооруженные орды Франко вместе с итало-немецкими фашистскими интервентами двинулись на революционный Мадрид, — они бесстрашно сражались под знаменами республиканских соединений.
Помню, Рубен говорил мне, что ему выпала завидная доля; получить боевое крещение в республиканской армии Эбро, которой командовал легендарный Модесто.
После поражения Испанской республики Рубен попал во французский концлагерь, откуда, преодолев множество опасностей, добрался до Москвы. Тут он решил изучать военное дело, чтобы по первому зову родины снова стать в ряды бойцов. И не случайно уже в первые дни Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии Рубен оказался на переднем крае, на реке Березине под Борисовом, где он командовал пулеметной ротой.
В письмах к матери и ко мне он писал, что до конца исполнит свой долг революционера-интернационалиста, будет сражаться так же непоколебимо, как советские летчики и танкисты сражались за республиканский Мадрид...
Тяжело раненный в бою, он был случайно замечен одним из наших танковых экипажей и доставлен в госпиталь. Но тишина госпитальной палаты была не по характеру Рубену: с еще не зажившей раной он возвращается на фронт и в приволжской степи, на подступах к Сталинграду, снова командует пулеметной ротой.
Уже в послевоенное время мне довелось встречаться и беседовать с воинами, которые знали Рубена. Он говорил им, что, сражаясь за Волгу, сражается за Эбро и что со стен Сталинграда ему отчетливо видятся контуры Мадрида.
Простой рабочий паренек, немного романтик, влюбленный в дороги, в песни, в друзей, он горячо любил свою вторую родину — Советский Союз и пламенно верил в победу над фашистской Германией.
Его любимыми героями были Василий Чапаев и Павел Корчагин. С ними он духовно сроднился еще в Испании, на их примерах учился стойкости и мужеству в борьбе. Он прожил недолгую жизнь — неполных 22 года. Под станцией Котлубань его сразил осколок вражеского снаряда, но пулеметная рота, которой командовал Рубен, с честью выполнила свою боевую задачу.
Нет, никогда не думал мальчик из Соморростро, что о нем будет написана книга.
Читая эту невыдуманную повесть, я узнавала в образе брата многих его друзей — таких же славных, простых ребят из нашей родной страны басков, с рабочих окраин Мадрида и других испанских городов.
Мне думается, что в этом и ценность повести: она доносит до читателя неукротимый революционный дух испанской рабочей молодежи, ведущей самоотверженную борьбу против фашизма в Испании, и раскрывает истоки тех светлых чувств, которые привели молодого испанского шахтера в ряды победоносной Советской Армии,
Амая Руис Ибаррури
I
МОСТ ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ
НЕДАЛЕКО ОТ СТУДЯНКИ
Берег реки. Первые, скупые проблески зорьки. Недалеко от траншеи на луговине отрывисто вскрикивает коростель. Наверно, он заблудился и не чует, какие это опасные места.
Над смутным берегом, над черным провалом реки, над всей долиной Березины, медленно выступающей из ночи, — усталая тишина. Слабый ветер доносит запах речной воды, вялых трав, мокрого торфа.
Тихо и в траншее, врезанной в откос у моста, — солдаты неслышно спят на утрамбованной глине где кто свалился, и Рубену минутами чудится, будто после вчерашнего боя их осталось в траншее лишь трое: он, да низкорослый сержант из Любани Янка Клавич, да неторопливый, нескладный рязанец рядовой Кузьма Лошаков.
Сидя у стенки траншеи, ощущая спиной, локтями, затылком ее влажную твердь, Рубен слушает негромкий настуженный голос Клавича.
— Все же удивительное дело, — отчетливо выговаривает Янка, раскуривая цигарку, и густой малиновый огонек отражается в зрачке его глаза. — Да, сколько живу на свете — не перестаю удивляться. А теперь, на войне, это чувство втройне обострилось: будто весь мир, что окружает нас, для того и создавался, чтобы человек постоянно был удивлен.
У него монотонный, задумчивый тенорок, и каждую фразу, каждое слово Янка произносит законченно, мысленно как бы расставляя запятые и точки.
— Вот посмотрите — цветок. Синенький, незаметный, вроде маттиолы. Как он в траншее оказался? Может, взрывной волной забросило? Поднял я его, рассмотрел, на ладони расправил, понюхал. Знаете, чем пахнет? Парным молоком! Ну право же, детством моим повеяло! Я трудовую жизнь пастушонком начинал. В детстве, однако, такие открытия повседневны: вся как есть природа, от малой травинки и до звезды, в дар тебе, маленький человек; открывай замки и удивляйся! А оно и действительно все чудесно, только сумей ты открыть замок. Вот глянуть — совсем пустяковый цветочек, и откуда у него это волшебство — запах парного молока? Попробуй, войдя в его лабораторию, разгадай, какие процессы в ней происходят: ты тут на сотни хитроумных загадок наткнешься, может, на тысячу наисложнейших задач!
Янка замолкает, ожидая возражений или замечаний, но и Рубен и Кузьма молчат. Клавич понимает это молчание по-своему и продолжает смелее:
— Или вот звезды. Зорька уже на взлете, а звезды горят. Не знаю, найдется ли на всем белом свете человек, пускай даже самой темной души, чтобы и его в какую-то определенную минуту не кольнуло удивлением это дивное диво: почему они горят? Почему одни — голубые, другие — синие, третьи — как янтарь! И как бы привстать повыше, с близкого расстояния на них взглянуть?
— Это конечно! — резко, уверенно подтверждает Лошаков.
Клавич оглядывает солдата с головы до ног, спрашивает мягко:
«— Что... «конечно»?
Кузьма немного смущен и отвечает торопливо:
— Вроде бы и я про такое думал. И не хочешь, а мысли сами просятся: что да почему? Вы человек ученый, в школе ребятам мозги вправляли, вам-то, понятно, проще судить.
Янке не очень нравится эта почтительность, за которой, быть меняет, скрыта усмешка, но хочется досказать свою мысль:
— Удивительное дело, если вдуматься; ведь они, звезды, два самых великих чуда наблюдали: как зародилась наша планета суматошная и как поднялось, выпрямилось и захромало по яругам ее, по косогорам самое беспокойное существо.
— Действительно! — вздохнув, соглашается солдат. — А существо... обезьяна?
— Нет, человек.
Рубену приятно слушать Клавича: маленький сержант все время поглощен загадками окружающего мира. Нетрудно представить, с какой жадностью и страстью рылся бы он сейчас в грудах книг, чтобы добраться до «смысла бытия»; но время по-своему рассудило, вручив сельскому учителю автомат:
Неожиданно заинтересованный рассуждениями Клавича, Рубен замечает с усмешкой:
— И ты уверен, что первый человек был хромым?
— Безусловно! — с готовностью откликается Янка. — Иначе и не могло быть.
Кузьма порывается что-то сказать, привстает, неловко вскидывает руку.
— У вас имеются возражения? — сухо и вежливо справляется Клавич.
Кузьма шумно вздыхает:
— Крутой вопрос!
— Если интересуетесь, скажу вам прямо, — вызывающе роняет Клавич, — и войны — а сколько их было! — результат человеческой хромоты.
— Ой ты! — невольно вырывается у Кузьмы, и в этом возгласе Клавич уже отчетливо различает насмешку.
Терпеливый, как и подобает учителю, он поясняет:
— Я имею в виду хромоту не в прямом смысле слова.
— Ясное дело, — серьезно соглашается Лошаков. И, спохватившись, даже привстает на колено. — То есть а в каком?
Некоторое время Клавич молчит снова раскуривает цигарку. Ветер свежеет. Тонкая линия зорьки все накаляется, принимая вишневый цвет.
— Войны, солдат, бывали разные, — подбирая попроще слова, продолжает Клавич. —Скажем, религиозные. Взвесить причины — так это же бред! Ну допустим, Лошаков, такое: я вытесал из камня бога. Бог у меня получился в виде быка. Почему бы мне не сказать, что бык и бог одно и то же, что бог, мол, пожелал и принял облик быка? Я и говорю тебе об этом, а ты не веришь. Не веришь и не хочешь поклоняться быку. В этом твоем возражении я усматриваю оскорбление моего божества. И я объявляю тебе войну, и детям твоим, и всему роду. За что? А за то, что ты моего бога не признаешь.
Кузьма внимательно смотрит на маленького сержанта и строго определяет:
— Ну, кавардак!
Похоже, что Клавйчу недоставало именно этого слова, и он охотно подхватывает его:
— Истинно, Лошаков, кавардак! Я не могу объяснить, почему дождь идет или почему засуха землю мучает. Проще простого на этого быка свернуть, он, мол, все знает, а нам его волю не понять. Этак оно удобно спрятать свою хромоту, а с камня что спросишь?
Кузьма поднимается с земли, встряхивается и, привстав на носки, смотрит на другой берег, где за рыхлым валом тумана чернеет противотанковый ров. Там — передний край, железный замок на подходе к мосту, о который за вчерашний день вдребезги расшибся батальон пехоты противника, поддержанный двумя десятками танков. Теперь они смутно чернеют на отлогом взгорке, как забытые копны, и даже не нарушают мирного вида приречья, а взгорок носит странное название — ничейная земля.
— Тихо... как на кладбище, — вздыхает Кузьма и, резко обернувшись к сержанту, спрашивает с затаенной злобой: — Значит, они, эти хромые дьяволы, за своего каменного быка воюют?
Клавич одобрительно смотрит на солдата.
— Ты башковит, Лошаков. Жаль, что на четвертом классе остановился, у тебя крепкая логическая хватка. Ну, ничего, учиться никогда не поздно, а твое — за тобой.
Но Лошаков заинтересован и спрашивает настойчиво:
— А все же?
— Именно так, за каменного бога, Кузьма. Он им удобный: все пакости прощает, все безобразия.
— Каменные быки, — шепчет солдат. — Подлецы... И крест у них чударнацкий, вроде бы поломанный.
— Гаммированный, Кузьма.
— Ясно, что на золото поскупились. Хромированный подняли, объедалы.
Клавич недовольно морщится, отбрасывает цигарку.
— Не дослышишь, так выдумаешь: есть такое греческое слово — гамма, в азбуке буква «г» называется: не хромированный крест, а гаммированный. Вроде бы четыре кочережки сложены, понял?
За дальним черным рубежом резко обозначается вспышка, и низко над траншеей, урча и захлебываясь, проносится снаряд.
— Вот и начинается! — почему-то весело отмечает Кузьма и кивает в сторону реки. — Кочережки зашевелились, хромированные...
У самых ног Рубена приподымается солдат, сладко зевает, с усилием стряхивая сон.
— Кочережка?.. Это, брат, что-то новое: по-моему, просто беспокоящий огонь. — Он снова потягивается и зевает. — Ну и пускай.
— Значит, кочережки хромированной не испугался? — одобрительно спрашивает Кузьма, но солдат не отвечает, он уже спит. — Нет, не испугался, — заключает Лошаков с усмешкой. — Что ему какие-то кочережки? Нашему солдату самого черта лохматого в траншею кинь — справится.
— Только не зарываться, Лошаков, — мягко одергивает Клавич. — Такому быку да наломать хвоста — дело, солдат, не простое. Бык этот, от крови бешеный, истинно чудище, обло и лаяй.
— А быть ему, заразе, ободранному, — отвернувшись, зло говорит солдат.
Рубену нравится этот случайный, неторопливый разговор. После тревожной ночи, проведенной почти без сна в ожидании атаки противника, был приятен и спокойный будничный облик солдат и мысли их, поверяемые друг другу.
Немцы всю ночь вели беспокоящий огонь: равномерно, через каждые десять-пятнадцать минут одно из их орудий слало сюда снаряд, и грохот разрыва катился по крышам городка, словно по ступеням, а потом ночь и тишина смыкались над изломанными заборами, над сдвинутыми и покореженными домами; над чьей-то судьбой.
Война громыхала уже десятый день, а Янка Клавич все не мог привыкнуть к тихим беженцам на дорогах, к голосу диктора? отсекающего названия знакомых городов, к черным крестам на плоскостях чужих, словно бы заблудившихся, самолетов и даже к воздуху над милой раздольной Березиной, с тонким и едким привкусом гари. Во всем, что видел Клавич вокруг себя, — в полуденном сиянии неба, в легкой и сквозной каемке перелеска, во взлете этого железного моста, повторенного рекой, в облике древнего городка у древней дороги — неуловимо были растворены неожиданность и тревога, изумление и гнев. Словно в какой-то непримеченный миг сама земная твердь дрогнула и переместилась, и шаг времени тотчас переменился, а улицы города, поля и дороги, и все, что творилось на них, молчаливо обрели небывалую значительность.
Не более месяца назад Клавич расстался со своим третьим классом. Девочки поднесли ему букет полевых цветов. Так издавна повелось — дарить учителям в последний день занятий цветы, и Янка принял их почти равнодушно. А возвращаясь из школы домой, он мельком заметил, что у маленькой белянки Лены забинтована рука. Он спросил:
— Что случилось?
И Лена улыбнулась ему глазами.
— Так... Пустяки.
— Ты поранилась?
Она опустила голову и стала поправлять бинт.
— Сама виновата. — И тут же удивленно встрепенулась: — А ведь нету никакой вины.
Он не стал расспрашивать: девочки сами рассказали, что, когда они собирали в перелеске цветы, Лена заметила над обрывом крупный и яркий колокольчик. Она потянулась к нему, сорвала, но оступилась и упала с большой высоты. Хорошо, Что откос под обрывом был глинистый, мягкий, и она только оцарапала руку. Ребята говорили: она не плакала, наверное потому, что испугалась, или потому, что гордая и стыдилась слез.
Янка представил эту картину: девочка над обрывом, над рекой, и ручонка протянута к цветку. О чем она думала в ту минуту? Неужели о нем, о своем учителе? О том, что этот цветок доставит ему, строгому, радость? Да, ребята считали его строгим, и он полагал, что это неплохо: больше внимания, меньше баловства. Дружеских и вольных отношений со школьниками Клавич избегал, но в тот недавний и памятный час, когда ему увиделась маленькая девочка над кручей, тихая ясность неуловимо вошла в его жизнь, и, он знал это, вошла надолго.
«Сама виновата — и нету никакой вины», — мысленно повторял он, неожиданно различая в этой фразе серьезный смысл: если хочешь сделать доброе дело и споткнешься — какая же в том твоя вина?
Янка и сам спотыкался в жизни, и куда больше, чем Лена! В одиннадцать лет, оставшись без матери, без отца, он поселился у родного дяди Сидора, и добрый родич, сноровистый хлопотун, определил его в подпаски. Дом родителей Янки дяденька продал, а племянника поселил в чулане. Этот чулан он все собирался перестроить в комнату и уже называл комнатой, так что Янке нечего было обижаться. В летнюю пору здесь было не хуже, чем в избе, даже спокойнее и прохладней, а чтобы зимой мальчонка не замерз и соседи не болтали лишнего, дяденька выдал Янке «напрокат», почти задаром, старый, еще добротный дедовский тулуп. Может, мальчонка и обжился бы в чулане: если на ночь закутаться в тулуп с головой, даже лютый мороз не проберет, но старый солдат-бобыль, лысый Пятрусь Чипик, с которым Янка приглядывал за стадом и которого, как старшего, слушался, однажды сказал с непонятной злостью:
— Что ж ты мытаришься? Убегай.
— А куда? — удивился Янка.
— Куда глаза глядят. Заморит он тебя.
— Так ведь ни копейки денег.
— А те, что заработал?
— Те за тулуп, за носку отдал.
Солдат достал из-за пазухи потертый кошелек и отсчитал Янке десять рублей. Клавич и сейчас помнил эти аккуратно сложенные вчетверку, каждый в отдельности, рубли, и прокуренные, вздрагивающие пальцы деда, и как они прощупывали каждую бумажку.
— Оперишься — вернешь. А не вернешь, плакаться не стану. И тулуп взамен отцовской избы забери. Чтоб обязательно.
Так и случилось, что ранним февральским утром двадцать седьмого года, прошагав по наметам в мороз добрых пятнадцать верст, Янка развернул в Любани на базаре дяденькин тулуп и, не торгуясь, отдал какой-то бойкой молодухе. Себе он сразу же купил поношенную стеганку и настолько ловко провернул всю эту операцию, что даже выгадал целый рубль. Тут же, при продаже-купле, у него завелись дружки, они словно бы давно его знали и с нетерпением выглядывали, когда же он придет. В чайной он угостил их вкусным квасом и пряниками, но потом они как-то вдруг исчезли, и удивленный Янка ощупал пустой карман.
Тогда, выйдя из чайной, он стал бродяжить. Дело дурное нехитрое — научился и воровать. Но если нехитрое дело украсть, совсем дурное — пойматься. И Янка поймался. Неделю его держали в тюрьме. Он не назвал своего адреса. Знал, что вернуться к дядьке — не жить, и пугала встреча с лысым солдатом Чипиком. Он был рад колонии, пусть даже со строгим режимом.
Учиться Янка не хотел — и от классной доски с написанными мелом цифрами, и от карты с двумя обручами и сеткой на него повеяло скукой, но книжки с картинками и удивили его и обрадовали: в толстенной книжище с бумагой, что картон, поразительным волшебством вместилась красочная, родная, привольная, его, Янкина, Березина.
Фамилию художника Янка не запомнил — не верилось, что это чудо совершил такой же, как все, человек, но событие, рассказанное тонким налетом краски, ожило, замелькало, захватывая дух.
Так вот она какая, Березина у Студянки! Тут, может, и камешка и песчинки не найдется, которые не были бы омыты кровью солдат. Как же ему не выведать все про ту грозную битву, о которой все, наверное, знали, а он, Клавич, ничего не знал?
Он не знал и другого: что с этой картинки для него начнется время дальних странствий по книгам, и потом закроется, как последняя страница, дверь школы в колонии, а в Минске, на главной, сплошь каменно-стеклянной, улице, в шумное здание техникума войдет уже другой Янка Клавич — серьезный, задумчивый паренек.
Теперь, с расстояния времени, все было для Клавича будто в полусне — зачеты, экзамены, словесные схватки в общежитии, летний военный лагерь, тяжесть винтовки в руках, мысль, что в этой нехитрой штуке ему подчиненная смерть.
А нива, на которую он так стремился, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное» (в течение трех лет эту строку поэта он читал и перечитывал на стене аудитории), — нива оказалась намного труднее, чем он представлял. За партами было немало таких же, как он сам в одиннадцать лет Клавичей; их еще не затронула ни карта, ни картинка. И только на третий год учительства Янка стал примечать, что радость всегда рядом с ним, в классе, и нужно уметь ее различить и терпеливо, и строго, и нежно растить.
Быть может, маленькая Ленка первая почуяла эту его главную заботу: Клавичу хотелось, верить, что там, над обрывом, она не случайно потянулась к цветку. Он сам был виноват, и не было вины, что избрал неприметную, трудную долю учителя.
И сейчас, в траншее, он думал о школьных делах больше, чем о военных: война продолжалась считанные дни, а в школе прошли три года. Но разве расскажешь насмешливому Кузьме или этому строгому лейтенанту со странным именем — Рубен, что в недальнем селе под Любанью, в одноэтажном доме в четыре окна у Янки осталось так много неотложных забот, пусть малых, но дорогих сердцу.
Клавичу очень хотелось бы знать, такие ли мысли и у рядового Кузьмы и у лейтенанта Рубена? У них, конечно, тоже остались незаконченные дела. Неужели все, что было, нужно перечеркнуть, выбросить из памяти и даже мысленно не возвращаться? И неужели возможно, чтобы месяцы и годы падали бомбы, рвались снаряды, люди лежали в траншеях, горели города? Может, спросить об этом у лейтенанта? Однако что он ответит, если и ему известна только последняя радиосводка.
Но после минуты молчания лейтенант заговаривает первый, и Янку удивляет его вопрос:
— Скажите, сержант, вы никогда не писали стихи?
— Нет, разве похоже?
— Я подумал об этом, когда вы говорили о звездах, о цветке. А вчера вон за тем рвом вы закололи штыком фашиста. Да, вы хорошо говорили о звездах, сержант.
— Я никогда не думал, что смогу убить человека, —откровенно признается Янка. — Если бы он был половчее, он убил бы меня. Но позвольте заметить другое: выстрелить — это просто: прицелился, нажал спусковой крючок, механизм сработал и — точка. Тут чувство совсем не то, что в рукопашной, когда он, живой, здоровый, рванется на твоем штыке. Там смерть — механизм, тут смерть — ты сам. Знаю, об этом не говорят, а только и не забывают.
Янка внимательно рассматривает свои руки, сковыривает с них налипшую глину и спрашивает негромко, доверительно:
— Как полагаете, что это сегодня у них там тихо?
Рубен смотрит на знакомый взгорок: от желтого склона и до дальнего леса полосой протянулась взбитая пыль.
Подтягивают подкрепления. Скоро начнут атаку. Для них эта переправа — лакомый кусок.
— Лакомый, — соглашается Янка.— Шутка ли, дорога на Оршу, на Витебск, на Могилев. Ох как нужен им этот мост! Однако...
Клавич не успевает договорить: прямо в траншею врывается крученый, хлесткий вихрь, вздрагивает, кренится земля, сверху летят комья глины и дерна.
— Этот прицелился! — бодро говорит кто-то из солдат и почему-то смеется. — Еще бы самую малость, бес тебе в ребро, и, шельма, наделал бы винегрета!
Клавич отряхивает с пилотки и гимнастерки пыль; круглое, чуточку скуластое лицо его в резких морщинах строго.
— Дело случайности. Дальнобойная. Должен же хотя бы один из десятка поблизости упасть.
Янке и самому нравится это его спокойствие, и хочется, чтобы лейтенант знал, что он, учитель, не из робкого десятка, а если и любит поговорить, так вовсе не из страха: тот, кто боится, молчит.
Еще со вчерашнего дня он приметил, что этот строгий с виду лейтенант слушает его с интересом. Правда, поначалу он отнесся к Янке как будто небрежно, а потом раз или два внимательно взглянул. Значит, составил определенное мнение. Какое оно — это его, лейтенанта, дело, но, видимо, мнение не плохое, иначе он сразу же, едва отгромыхал снаряд, так запросто не спросил бы:
— Что... «однако»?
— Однако это не просто речка, — держа у груди пилотку, снова забыв ее надеть, замечает Клавич. — Это Бе-ре-зи-на!
— Красивое имя... От слова береза?
— Красивое, да не всем по душе. Наполеон, тот в последние свои годы и слышать его не мог, так и шарахался, будто от пощечины...
Лейтенант привстает на носки и смотрит на речную долину, где серый косяк тумана как груда пепла на траве.
— Так вот она какая, Березина... Последний рубеж Наполеона?
— Я думаю, — рассуждает Янка, — что реки, как и люди, имеют свою судьбу. Вон сколько их, больших и малых, движется в океан! А все же нету другой Березины. Вам бы в Деревне Студянке надо побывать.
Это с десяток километров. Я там бывал, и местные знающие люди показывали, где первый мост был французами наведен, где второй, где сам император драпал, как прохвост, а за ним и маршал Виктор и генерал Эбле... Мне это все для лекции нужно было знать досконально. А ночью как-то вышел я один к реке — луна из-за леса, будто пожар, и вот они, воочию, горят мосты, и великая, страшная, брошенная армия умирает...
— Ну, голова! — удивляется Кузьма. — И все-то он знает, все помнит...
Лейтенант оборачивается к Янке, и с первого взгляда учитель понимает, что это удачный урок.
— Не думал, что увижу Березину, — говорит Рубен и ласково смотрит на маленького учителя. — Ведь стоять на ней — это честь. И нужно рассказать об этом солдатам. Выберем время, и вы расскажете. Сейчас я позову политрука.
Клавич смущен неожиданным оборотом разговора: в роте он новичок, и так ли следует знакомиться на переднем крае?
А Кузьма усмехается:
— Академия!
Впрочем, Янка снова не может понять: доволен ли Лошаков неожиданным заключением их разговора или смеется?
А ЛЮДЯМ ДОРОГО РОДНОЕ
Когда, направляясь к пулеметному расчету младшего политрука Савина, Рубен скрывается за поворотом траншеи, Кузьма спрашивает с еле приметной усмешкой:
— Не боязно вам, товарищ сержант? На мой характер, если слово на людях держать, так уж лучше сутки на губе париться. Робость у меня на людях и затмение. Другой, глядишь, как чесанет языком, просто разлюли-малина! А на меня вроде бы немота находит, сбычусь и молчу. И еще я сейчас такое подумал: что нам товарищ комвзвода и сами порядком могли бы порассказать. Что это за местность, где им воевать довелось, что за река — Эбро?..
— Погоди, — обрывает его Клавич. — При чем тут Эбро? Это ведь Испания, уважаемый...
— Так они, наш комвзвода, эту речку и называли, Я слышал их разговор с младшим политруком.
Клавич растерянно смотрит на солдата, и ему чудится, что лицо Кузьмы багровеет: тяжелые отблески ракеты плещут вокруг...
— Сигнал! — кричит кто-то рядом. — Ну, сейчас начнут...
Янка оглядывается: над рекой, роняя дымные хлопья, плывет багровый и хвостатый клубок огня. Он застывает в небе, зловещий и немой, рвется и рассыпается на куски, и в густом трепетном всплеске света какие-то мгновения Янке чудится: по белой коре молоденькой березки, склонившейся над траншеей, каплями стекает кровь.
По узкой полоске предмостья на правом берегу реки хлещет диковинная плеть. Именно ударами плети по пыльной земле кажутся Клавичу первые разрывы снарядов. Отсюда, с откоса, видно, как кружатся бурые завихрения пыли, взлетают, разламываются и медлят с падением тяжкие груды земли, корневища кустарника, шпалы и камни, как перемещается и сползает по склону этот кудлатый вал, пронизанный ветвистыми вспышками огня.
По «пятачку» у моста одновременно бьют десятки орудий, но сквозь непрерывный, неистовый гром и лязг Янка отчетливо слышит живой и тревожный голос моста: нервный озноб лихорадит могучие железные фермы.
Вал надвигается на реку, и она выплескивается из берегов; вынесенная из придонной глубины, вскидывает зеленые клешни коряга, и в этой кутерьме летящего снизу вверх дождя, изломанного света, вихрей пены, осыпающихся обрывов над омутом тихо колышется и цветет — Клавич успевает ее заметить — белая, белее снега, водяная лилия.
— Сейчас пойдут танки! — кричит Кузьма, пристраивая винтовку на бруствере.
— Нет, — говорит Клавич. — Танки на мост не пойдут. Было бы очень глупо рухнуть с такой высоты. Послушай, так это правда, что лейтенант воевал на Эбро?
Солдат удивлен вопросом, а еще больше тоном Клавича: маленький сержант словно не замечает, что происходит перед ними на реке.
— Да вот они сами, товарищ командир... — облегченно вздыхает Кузьма, и, резко обернувшись, Янка едва не сталкивается с лейтенантом.
— Что тут у вас, сержант? — спрашивает Рубен, и прямой, строгий взгляд его чуточку теплеет.
— Полный порядок, товарищ лейтенант.
— Вечером, в случае затишья, выступите перед ротой. Это большое дело, Клавич, пламенная страница истории. А мы должны постараться и следующую страницу не хуже написать.
Клавич доволен и не скрывает этого, но его торопливый ответ звучит будто заученный:
— Будьте уверены, я этот раздел до корочки изучил. На карте смогу показать, какой дорогой Удино спасался, где маршал Ней улепетывал, где пятьдесят тысяч французов полегло... Страница? Нет, больше... Поэма отваги россиян!
— Отлично, товарищ сержант, — как-то по-будничному говорит Рубен, снимая с его плеча травинку. — Жаль, я вашей беседы не услышу. Взводом уже командует младший лейтенант Савин. Я ухожу...
Клавич теряется и невольно задерживает руку лейтенанта в своей руке:
— Бой, и... такое? Отзывают?
Рубен берет свой вещевой мешок в нише траншеи.
— Главное — бритва. Не могу щетину запускать. Там, на правом берегу, правда, сейчас не до бритья, в третьей роте убит командир. Меня посылают в замену.
— Значит, с повышением? — улыбается Янка и тут же соображает, что из третьей роты, пожалуй, возврата нет: она окопалась у самого моста и приказ ей — стоять насмерть. Странно происходит это на войне: они знакомы лишь третий день, а Клавичу трудна прощальная минута. Поэтому уж не из любопытства, а чтобы сказать в напутствие доброе слово, он спрашивает:
— Я так и не успел узнать, вот боец Лошаков говорит, будто вы на Эбро воевали?
Лейтенант затягивает шнур вещмешка, резко выпрямляется, статный и рослый, дружески подмигивает Лошакову:
— Ну, товарищ Кузьма, тот знает! Прощайте.
Клавичу он замечает мимоходом:
— А что Эбро? Березина, пожалуй, красивее. Но людям дорого родное, сержант...
Он поднимается на глинистый выступ, легко, по-спортсменски перемахивает на бруствер, взбегает по откосу насыпи и широким спокойным шагом направляется к мосту.
Сейчас он один на высокой и узкой насыпи над простором реки, и с той стороны, со взгорка, его, конечно, видят, и, думая об этом, Янка чуть слышно шепчет:
— Ну что же так медленно? Ну, побежал бы!..
А Рубен идет по-прежнему ровно, неторопливо, и даже кажется, будто он замедляет шаг, а когда он входит под голубую арку моста, между ним и траншеей из-под земли взлетает сплошная черная завеса.
— Опять дальнобойная, — монотонно повторяет знакомый голос.
— Да, был человек... — говорит кто-то из солдат.
Клавич цедит сквозь зубы:
— Что ты там паникуешь — был?
Рядовой Лошаков примечает: будто под невидимым грузом, плечи маленького сержанта тяжелеют.
— А... может? — шепчет Кузьма.
Черная завеса опадает, и теперь из траншеи мост просматривается насквозь — на нем ни единого человека. Артиллерийская подготовка закончилась, и уже виден весь правый берег, задымленный, перепаханный вдоль и поперек. Он почти прежний, и уже не тот, что-то в нем неуловимо переменилось.
Танки! Они идут развернутым строем, охватывая предместье круто выгнутой скобой. Их много. Десятки машин. Ветер относит гул моторов, и тишина кажется неправдоподобной — она звенит. Это еще не успокоился, еще лихорадит мост.
Янка напряженно следит за рассчитанным, даже как будто неторопливым маневром танковой группировки. Его руки, грудь, щеки покалывает озноб. Капелька пота щекочет висок... Что это, страх? Нет, озноб сразу же проходит, и Клавич отчетливо сознает, что не испытывает страха.
— Людям... дорого... родное... — шепчет он, прислушивается и еще повторяет эти слова.
«Вид на Березину...» Где и когда Рубен видел такую картину? Ну да, конечно, еще в школе, в далеком Соморростро, где старый учитель так увлекательно рассказывал притихшей шахтерской малышне о близких и дальних странах мира.
Это от него Рубен впервые услышал звучное имя — Россия, услышал и запомнил, как это бывает в детстве, вместе с картинкой из раскрытой книги. На той картинке светлым кудрявым облаком плыли заснеженные кроны берез, черные птицы всполошенно кружились в небе, а по дороге, мимо полосатого верстового столба, мимо покинутых, занесенных сугробами пушек, понуро брели, опираясь на палки, последние наполеоновские воины в длинных шинелях, в странных треугольных шапках.
Россия простиралась безбрежием белой равнины и темнеющих в отдалении лесов, а французы шли, как видно, очень долго, и, наверное, все время перед ними тянулась эта ровная, усеянная трупами морозная дорога, и вокруг, на сотни километров, снега, снега...
На третьей картинке знаменитая Березина выглядела неширокой задумчивой речонкой с лесистыми берегами, с караваном плотов у обрыва на быстрине, с бревенчатой деревенькой на откосе. В таких небогатых деревеньках, среди неяркой природы полей, болот и лесов, жили тихие пахари, лесорубы, плотогоны, мастеровые нехитрых ремесел старинного натурального хозяйства, и это они — о чудо! — поставили здесь, на берегу своей Березины, великую наполеоновскую армию на колени!
Так говорил седой учитель. Почему он любил далекую заснеженную Россию? Стоило ему вспомнить об этой стране, как Рубену чудилось, будто сказочный Эчекохауна, герой и защитник баскской земли, снова затрубил в свой боевой рог. Но мог ли он созывать басков и на защиту России? И нужно ли это было ей?
Тогда Рубен этого еще не знал, а учитель знал. Быть может, он считал, что Рубену было еще рано такое знать? Но у него с детства зародился интерес к России, как будто мальчонкой он смутно предугадывал свою судьбу.
Мальчишек всегда тянет в странствия, и мысленно он давно уже путешествовал по бескрайним далям России и, конечно же, побывал и на Березине. А жизнь оказалась богаче мальчишеской мечты, и многое в ней было похоже на сон: мелькание стран, городов, дорог, звучание чужой, непонятной речи... и сейчас, когда он вошел под арку моста над Березиной, той самой, памятной рекой, что в книжке, был весь этот простор вокруг как воспоминание детства.
Возможно, что именно с этого берега, где теперь были отрыты траншеи, неизвестный художник и набросал знакомый Рубену пейзаж.
Спасибо маленькому сержанту Клавичу... Янка хорошо помнил, на какой земле он стоит. Странно, что в спешке сборов, отъезда, пешего броска, двухдневной бомбежки, ночной вылазки на правый берег и схватки с немецким патрулем Рубену примелькалось название реки и не вспомнилось давнее знакомство с нею...
Многое в жизни было как сон — и холодок опасности, ощутимый сердцем, и уже испытанная, острая реальность смерти. Обстрелянные солдаты, как правило, весело вспоминали те минуты, когда каждый из них мысленно простился с жизнью. Рубен примечал: чем серьезней опасность, тем веселее воспоминания о ней. Не потому ли, что она миновала и сменилась радостью видеть, дышать, говорить, жить?
Широко, неторопливо шагая под фермами моста и невольно вслушиваясь в их явственный металлический голос, Рубен испытывал себя и убеждался, что страх податлив и его не так уж трудно одолеть, если не считать, что каждый выстрел адресован тебе, что каждый артиллерист врага только о тебе и думает.
Когда на самом гребне насыпи громыхнул тяжелый снаряд дальнобойной и вскрикнули и качнулись железные своды моста, а по его переплетам певуче и разноголосо загремели осколки, сбитый с ног горячей взрывной волной, Рубен упал на рельс и с минуту лежал неподвижно. За этот малый отрезок времени он успел подумать о многом: что снаряд не прицельный, случайный; что мост не поврежден; что все хорошо обошлось — ведь там, под каменной башней опоры, могла бы наделать беды взрывчатка, заложенная нашими саперами еще с вечера, на случай, если противник прорвется на мост. Потом он взглянул на свои руки, пошевелил ими, подвигал ногами и быстро, легко встал.
За человеком на мосту наблюдали не только немцы из своих окопов. Видел его из блиндажа и командир батальона капитан Сергейчук, видел и в сердцах ругнулся: почему новый комроты так медленно и беспечно движется по мосту?
Этим вопросом комбат встретил Рубена:
— Может, по лазарету скучаете, лейтенант?
— Виноват, товарищ капитан, увлекся...
Сергейчука удивил ответ.
— Увлекся или... боялся?
Рубен усмехнулся:
— Первое, товарищ комбат... Березина!
Блеклые глаза комбата смотрели устало, худое запыленное лицо в засохших каплях пота казалось равнодушным ко всему на свете.
— Ну, объяснение... — сказал он без оттенка упрека или иронии, просто чтобы сказать какие-то слова, резко привстал с ящика, на котором сидел у амбразуры — неширокой щели меж двумя шпалами, врытыми в землю торчком, неловко выбросил вперед руку...
Ответа капитана Рубен не расслышал: накат блиндажа качнулся, подпрыгнул, заскрипел; сквозь зазоры меж бревнами струями хлынул песок; жарко плеснул и ударил в уши воздух. Где-то рядом отрывисто просчитал очередь пулемет, яростно лязгнула противотанковая пушка, издали донеслись крики, секундой прошла тишина.
— Ясно! — сорванным голосом выкрикнул комбат в телефон, и на его запыленном лбу вздулась темная вена, а губы скривились. Он стряхнул с карты весок и крупицы камня, не замечая, что и плечи и пилотка тоже сплошь покрыты песком.
В смешанных, то далеких, то близких раскатах боя Рубен улавливал только отдельные слова:
— Сто метров... Прямо от насыпи. А, черт, как видно, засек блиндаж! Сто метров, но идут танки... Вот, опять!
Рубен переждал грохот взрыва, будто уходившего вглубь земли, и спросил:
— Разрешите принять командование третьей ротой?
Капитан наклонил голову и сказал удивленно:
— А ведь бомба! Фугаска, пятьдесят килограммов. И самолетов противника не было слышно, а вот...
Он спохватился, встал.
— Приказ вам известен? Следуйте в роту. Мы должны удержать мост.
— Мы не отойдем, — сказал Рубен.
Комбат одобрительно кивнул.
— По телефону я вашу фамилию недослышал. Такая котельная, что станешь глухарем.
— Ибаррури... Лейтенант Ибаррури.
Редкие брови капитана приподнялись:
— Вот как?.. Значит, однофамилец товарища Долорес?.. Впрочем, у меня в батальоне есть солдат Суворов. А у соседа справа артиллерийской батареей командует Артем. Фамилия Сергеев. Хотя кому не известно, что товарищ Артем, он же Сергеев, погиб при крушении аэровагона еще в 1921 году?..
— Артем Сергеев?.. Он здесь? — удивленно переспросил Рубен.
Это имя говорило ему о многом — образ живой и ясный отчетливо мелькнул перед глазами, чтобы позднее повторяться на трудном рубеже. Но комбат не заметил его удивления.
— Слышите, танки приостановились? Ну, быстро через насыпь, лейтенант... Успеха!
Для Рубена эта короткая минута затишья после артподготовки была как нельзя более кстати. Выстроившись по всему полукружию предмостного выступа, танки противника замерли у какой-то известной им черты. «Немецкая пунктуальность, — подумал Рубен. — Если атака назначена в 10.00, она не начнется в 9.59. Но вот и насыпь. Она не высока. Взять ее с ходу, пока не началось?»
Прямо от блиндажа утоптанная тропинка вела к реке, ступеньками спускаясь к заводи, образованной опорой моста, Рубен сделал несколько шагов по тропинке, повернул влево, к насыпи, низко пригнулся и побежал. Вокруг, на каменистой супеси откоса, чернели сухие стебли бурьяна. Почти осязаемо над ними стлалась тонкая и едкая прель. Вода на дне воронок, разбросанных в бурьяне, была густой и жирной, как нефть, и на ней жарко плескалось солнце.
А насыпь лишь издали казалась невысокой — теперь, когда он стал взбираться по крутому откосу из паровозного шлака, щебня и песка, весь выступ фронта четко обозначился перед ним полосой оседавшей пыли, суетливыми фигурками солдат, перебегавшими, как будто бессмысленно, с места на место, шахматным порядком танков, замерших у незримого рубежа.
Рубен механически стал считать танки: десять... пятнадцать... двадцать... Он досчитал до сорока и сбился. Четыре машины притаились совсем близко, на зеленом дне разлогой балки, выходившей устьем в реку. Там струился ручей, и они были похожи на каких-то странных животных, притихших у водопоя.
По гребню насыпи частыми серыми вспышками схватывалась пыль, и у Рубена мелькнула мысль, что так же она схватывается при пулеметном обстреле. Но выстрелов не было слышно: над берегом, над рекой нешумной волной катился ветер, и, тронутый им, однотонно гудел мост.
Шагнув через рельс, накатанный и синий, Рубен заметил, что вспышки вдоль насыпи зачастили и между шпалами щебень пошевеливался, как живой. Он оглянулся, пилотка рванулась с головы и слетела, однако он успел ее подхватить, прыжком перемахнул через рельс и скатился по откосу вниз.
Под насыпью проходила дренажная канава, поросшая мягкой влажной травой. Было приятно коснуться ее руками, примять, шелковую и. густую. Он взглянул на пилотку: пуля прошила ее насквозь, вырвав при выходе клок ткани, «Цена секунды... — подумал Рубен. — Не наклонись я в ту секунду ниже...» Тут же он вспомнил, что успел заметить, откуда бил пулемет противника. Он бил из-под черной коробки танка, подорванного во вчерашнем бою. Там над холмиком земли коротко поблескивали тусклые искры. Значит, пулеметный расчет противника подобрался очень близко к насыпи и теперь контролировал предмостье.
«Нужно убрать пулемет, — сказал себе Рубен. — Сейчас мы его уберем. А танки... все еще медлят?» Ветер крутнулся и донес голоса. Он встал, прошел десяток шагов мягкой пружинистой травой и сквозь кустарник, росший вдоль канавы, увидел бруствер траншеи.
В полосе обороны третьей роты, справа от моста, бомбежка и артиллерийский обстрел были, как видно, сильнее, чем перед КП батальона, снаряды и бомбы сплошь перепахали склон берега и луговину.
Выбирая среди беспорядочных рытвин путь покороче, Рубен подумал, что эта открытая местность, наверно, отлично видна с откоса высотки, захваченной врагом, и только подумал, как о жирные торфяные глыбы, вывороченные из глубины, сочно и хлестко зашлепали пули. Теперь нетрудно было убедиться, что пулеметчик охотился именно за ним, засек на гребне насыпи и следил за передвижением.
Время не ждало, и капитан, возможно, уже вызывал нового комроты к телефону, но, чтобы достичь траншеи, Рубену обязательно нужно было открыться, переползти через осыпь огромной воронки. Неужели тот клятый фашистский пулеметчик так и будет все время охотиться за ним?
Под рукой оказался обрубок корневища; Рубен взял его, стряхнул землю, укрепил на конце пилотку, осторожно приподнял над осыпью. Пулемет на той стороне молчал. Слабый порыв ветра донес прерывистый гул. Вот что отвлекло пулеметчика: пошли танки. «Точно, пошли танки!» — вслух произнес Рубен. Он вскочил на ноги, метнулся в сторону, в обход воронки, добежал до траншеи, упал. Еще одно движение, и он на дне траншеи.
Его как будто ждали именно здесь, на глинистой выемке, где снаряд обрушил стенку траншеи, словно он и не мог бы избрать другого пути. Худенький, хрупкий лейтенант, совсем мальчик, выпрямился перед ним и поднес к виску руку:
— Товарищ комроты?
— Да, так и есть...
— Разрешите доложить... Лейтенант Сергейчук. У нас выбыла половина личного состава.
— Позже доложите, — сказал Рубен, удивленно подумав, что за короткое время встречает второго Сергейчука. — Драться положено нам, живым. Пулеметчики — отсекать пехоту от машин... — Он заметил в нише гранаты, подхватил пару штук. — Бутылки с горючей смесью, товарищ Сергейчук, есть?..
— Так точно! — громко воскликнул лейтенант. — Бутылки розданы бойцам...
— Возможно, — сказал Рубен, — часть танков мы пропустим над собой. Траншея узкая, и они ее перескочат. Но что они без пехоты? Непонятна их медлительность...
Лейтенант просветлел лицом, и по взгляду его, по тону Рубен понял: между ними уже проскользнула искорка душевного контакта.
— Может, вы не заметили, товарищ командир, в самом начале атаки две их машины подорвались на минном поле.
— Отлично, — сказал Рубен. — А пока обратите внимание на подбитый танк. Вон, что на взгорке. Там пулеметная точка. Нужно убрать.
Лейтенант метнулся по траншее.
— Второй расчет... Задание командира роты...
И снова голос худенького, хрупкого лейтенанта прозвучал радостно, и Рубен, конечно, не подумал о том, что, возможно, больше не услышит этого голоса.
И ВИНОВАТ, И НЕТ ВИНЫ...
То, что Рубену случалось раньше слышать о танковых атаках, не было похоже на этот бой. Нельзя сказать, чтобы здесь, у Березины, танки противника шли напролом. Дальний склон взгорка они преодолели, неся на броне десант, на большой скорости, и заградительный огонь нашей артиллерии не нанес им урона. Некогда две машины одновременно подорвались на минах, движение всей группы замедлилось, а затем приостановилось. Командир танковой группы явно хитрил, и хитрил непростительно, маневрируя у нашего переднего края. Как видно, он старался прикрыть свою пехоту, которая неотрывно следовала за машинами, не отставая от них и на десяток шагов, и несколько раз менял направление удара. Промедление стоило врагу еще двух машин, подорванных гранатами.
По траншее дважды пронесся радостный крик; кто-то замысловато и весело ругнулся; кто-то громко засмеялся, а Рубен подумал о том, что эта рота почти двое суток не выходила из боя и потеряла половину личного состава.
— Здорово, Корочкин!.. Твоя работа. Да ты, брат, ежели озлишься, самому черту рога свернешь. Молодчина, Корочкин, поздравляю!.. Только ружьишек жаль.
Рубен оглянулся. Кто это говорил? Низкий басовитый голос перекрывал и глухой гул моторов и другие голоса. Он заглянул в боковой ход траншеи, перегороженный кучей земли. К рыхлому отвалу прислонились два солдата: оба плечистые, русые, без пилоток, с распахнутыми воротами гимнастерок, очень похожие друг на друга два силача. Наискось, поперек хода у их ног валялись две винтовки, одна с покривленным стволом, другая — с расщепленной ложей.
— С чем же вы остались? — строго спросил Рубен.— Ни гранат, ни бутылок, ни винтовок?
Солдаты оглянулись, напряженно привстали с земли. Тот, что казался постарше, с жесткими светлыми усиками скобкой, приподнял на уровень груди связку гранат:
— Кое-что имеется... А вы... с пополнением?
— Я командир роты, — сказал Рубен.
Они порывались встать, но вверху, на бруствере, с тонким пронзительным звоном грянул снаряд, и комья земли захлестали по стенке траншеи.
Отмахнувшись от пыли, как от мошкары, другой солдат заговорил с жаром:
— У нас тут надежно, товарищ ротный... Пятеро было — двое остались, а все равно надежно. Вы видели, как наш сибиряк, товарищ Корочкин, сам две машины подцепил? Р-раз — и, гусеница разлетелась! Еще р-раз и у второго танка тоже... Он, товарищ Корочкин, если уж бросит гранату, значит, наверняка...
— Кто же из вас Корочкин? — спросил Рубен. — Такого солдата — к награде...
Здоровяк с усиками скобкой смущенно улыбнулся:
— Я и есть Корочкин. Прошлый комроты уже записывал... Только нас из танка, шельмы, засекли: вон как ружья покорежили. Я бы им еще...
Он резко нагнулся, прислушался, втянув голову в плечи, сжался в комок и, словно подброшенный пружиной, взлетел на бруствер траншеи. Такой беличьей ловкости от этого грузного парня Рубен не ожидал, Легким и плавным прыжком Корочкин поднялся на бруствер, что-то выкрикнул оттуда, обронил грудку земли, а потом близко прокатился сухой и резкий разрыв, и стало слышно, как натужно, зло воет на крайнем напряжении мотор...
— Танк!.. Он опять подорвал танк! — вскакивая, закричал солдат, и бледное его лицо в потеках пота мучительно покривилось, а глаза блестели восторгом. — Ну, я за тобой... товарищ Корочкин.,. За тобой!..
«Товарищ Корочкин». Этот низкий басок чудился Рубену в течение всего боя. Он не знал, жив ли отчаянный сибиряк или погиб в поединке с танком, но в криках, стонах, отрывистых словах Рубен отличал знакомый голос по тембру, по выражению значительности, пока не понял, что это слуховой обман.
В первом расчете был убит пулеметчик, и Рубену пришлось его заменить. Новенький «максим» работал послушно и четко, и, когда на откосе, у подбитого танка, в сотне метров от выступа траншеи, засуетились вражеские солдаты, Рубен, не дав опомниться, накрыл их длинной очередью и случайно услышал солдатскую похвалу.
Будь она высказана открыто — совсем другая ей цена. Но тот, кто похвалил комроты, так и остался ему неизвестен. «А наш командир, хлопцы, что надо». Странно, что слово, оброненное кем-то невзначай, может так много значить! Он тут же подумал, что нового в этом нет: каждый поступок командира, каждое его движение у солдат всегда на виду. Колебание, сомнение, промедление, осторожность, оттенок нерешительности или растерянности — все обязательно будет замечено и учтено. Однако в старом понятии командирского примера для Рубена все было и ново потому, что ситуации в бою неповторимы, как неповторимы жизни.
Вскоре его потребовал к телефону комбат, и Рубен передал пулемет рослому солдату, лишь мельком взглянув на него, и, уже беря телефонную трубку, вспомнил, что это и был Корочкин.
— Как там у тебя? — спросил капитан Сергейчук. И это обращение на «ты» прозвучало мягко, дружески. — Держитесь?
— Согласно приказу, — сказал Рубен. — Но бойцов у меня маловато...
Сергейчук помедлил: в трубке послышалось хрипение, звук тугого удара, треск.
— Вот и мы отбиваем вторую атаку танков, — сказал комбат, и голос его неуловимо переменился. — Трудно тебе, знаю, но продержаться нужно до самого вечера. Я запросил подмоги. Обещали прислать.
— Днем это не просто, — заметил Рубен. — Но если пришлют, пусть присылают с гранатами. Побольше гранат.
— Знаю. Передал...
Разговор продолжался, пожалуй, долго, и Рубен почувствовал, что комбат хочет еще о чем-то его спросить, но это ему по какой-то причине трудно.
— А командиры взводов... на местах?
Да, — сказал Рубен. — Порядок.
— Передай своему телефонисту, помедлив, выговорил комбат. — Да, я только что говорил с ним... Похоже, малый паникует. Там у тебя в роте есть лейтенант. Он замещал командира до твоего прибытия...
— Есть такой. Я его первого тут встретил!
— Хорошо держится?
— Хорошо.
Голос комбата повеселел:
— Что ж, я доволен. Скидок и поблажек, понятно, никаких... Это мой братишка, лейтенант Сергейчук.
— Скажу, что вы спрашивали.
— Нет, ни в коем случае, — прервал его комбат. —= Ну, ни пуха тебе, ни пера.
Рубен положил трубку и обернулся на голос. Перед ним стоял сутулый, нескладный, угрюмого вида санитар. Он протягивал маленький сверток:
— Документы лейтенанта Сергейчука.
Рубен не понял и свертка не взял. Он смотрел на обнаженные до локтей руки санитара, на них запеклись темные пятна.
— Лейтенант Сергейчук убит. Это его документы.
Рубен протянул руку к трубке: «Сообщить комбату...» Но санитар мягко остановил его:
— Товарищ командир... Не надо.
Рубен глянул ему в лицо и лишь сейчас заметил, что санитар уже в летах; темную щеку его, прорезанную морщиной, дергал частый тик.
— Что «не надо»?
— Вы извините, но комбат, Савелий Семеныч, мой земляк. Мы оба из Можайска. И раньше знались... Он очень любит брата, Сережу...
— Не понимаю, что вы хотите? Капитан должен знать...
— А зачем ему знать, что Сережи нету? Сколько нам и самим-то... осталось?
— Да что вы, право, умирать сюда пришли? — обозлился Рубен. — С таким настроением только на похороны.
Санитар резко выпрямился, выпятил впалую грудь; небритая, в блестках седины щека задергалась сильнее.
— Товарищ командир, я не уйду отсюда. Можете верить мне: я не трус. Вчера и сегодня на моих руках умерло четырнадцать солдат. Я знаю, как умирают. А комбат любит братишку, Сережу... и сейчас руководит боем. Вы извините меня... — Он опустил голову. — Я ведь к вам по возрасту. Будто к сыну.
— Понимаю, — сказал Рубен. — Да, понимаю.
— Спасибо... — прошептал санитар. Он тут же бросился на крик по траншее, а из глинистой стенки с грохотом вырвалось облако и закрыло его,
— Спасибо, — удивленно повторил Рубен. — За что спасибо?.. За то, кто комбат пока не узнает? Пока?
Невозможно перечислить оттенки русского слова, этого простого, торопливого, с придыханием «спасибо», и как оно наполняется весом, обретает цепкость и следует за тобой... Пожилой санитар уже был мертв, а слово жило и шло за Рубеном.
Рубен не заметил, как очутился в конце траншеи, прорезавшей высотку у самой реки. Странно безлюдным выглядел этот закоулок. По дну траншеи стлался
тяжелый дым. Он был густой, свинцовый, как вода, и перемещался струями. Под глинистой стенкой, по горло в этих струях, откинув голову и закусив губу, сидел солдат. Рубен расслышал его свистящее дыхание.
— Братишка... — Солдат пошевелился; тусклые глаза оживились. — Ты... видишься мне? Да, правда, ты есть! Видел?.. Горит?,. Здорово мы его, гада!..
Дым медленным ручьем стекал в траншею через развороченный бруствер. Рубен приподнялся на носках: в пяти шагах от траншеи тяжело и черно горел перекошенный танк. Башенный люк его был открыт, пушка нацелена в небо, а броню моторной части деловито прощупывал огонь.
— Здорово, — похвалил Рубен. — Молодцы, ребята... Но где же командир отделения, пулеметчики? Где все?
Солдат приподнялся, напрягся, резко качнул головой, будто стряхивал брызги, желтое лицо перекосилось и застыло:
— Нету... И пулемета нету. Прямое попадание, гады!.. И Харкина нет, командира... Нет никого!.. — Голос его сорвался: — Не трогай... Не надо... У меня, доктор, осколок в животе. Проникающее. Знаю… — Он приподнялся еще выше, опираясь локтями о стену. — Последнее слово, доктор... Вот возьми. Понимаешь, для себя берег. А бросить сил уже нету. Жаль, думал с этим салютом и помереть. Да что же ты не берешь? Возьми…
Рубен наклонился и взял из его рук связку гранат. Солдат смотрел спокойно и ясно.
— Запомни. Чтоб без промашки. По мне, братишка, салют...
А слово, то простое слово, что прошептал санитар, по-прежнему шло за Рубеном, наполняясь необычным значением и светясь.
— Спасибо, — сказал Рубен. Он повторил это слово: — Спасибо, брат.
Танковую атаку на «пятачок» у моста противник готовил довольно долго, то подтягивая пехоту, то перестраивая боевой порядок машин. Бой предстоял показательный, рассчитанный по минутам, за ним наблюдали генералы прибывшие из ставки Гитлера. Полсотни танков и два батальона мотопехоты, поддержанные бомбардировочной авиацией и артиллерийским полком, должны были завершить операцию по захват моста в течение часа. Для неукоснительной точности офицеры и унтер-офицеры — командиры машин еще раз сверили перед боем новенькие хронометры. Механизм наступления: гусеницы, броня и моторы, пулеметы и пушки, минометы и автоматы, снаряды и патроны, средства доставки и связи — должен был сработать по стрелке, отсчитывающей секунды.
Хронометры, как и положено им, точно отсекали время, однако в этой громоздкой, задымленной машине, несущей мертвый лик победы сквозь огонь и гром, на каком-то пределе напряжения, на вершине размеченного часа отказала одна деталь — люди, и стрелка побежала по кругу дальше, обгоняя рассчитанный безупречно генеральский график.
Новенькие хронометры были найдены у двух танкистов, которых сразила пулемётная очередь у подбитых машин. Теперь хронометры лежали перед Рубеном на фанерном ящике из-под папирос, рядом с телефоном, но отсчитывали другое время.
Все же от грозной, танковой атаки Рубен ждал большего. Бой с танками представлялся ему как столкновение со стихией, как в ураган аврал на рыбацкой шхуне, то ли уже обреченной, то ли побеждающей. Словом, как в кино. На деле все было проще и прозаичней. События мелькали так быстро, что он не уловил в ходе боя главного, переломного момента, а потом танки вдруг стали отходить. Но сначала растерянность проявилась в пехоте противника: отсеченные огнем пулеметов от машин, солдаты пытались залечь, окопаться, отыскать укрытия. Склон берега, накрененный к реке, был гол, будто накатан: ни выемки, ни кустика, ни бугорка. Солнце уже поднялось над фермами моста, и этот отлогий склон, покрытый блеклой смятой травой, был ярко освещен. Солдаты напрасно искали укрытий — от солнца куда же спрятаться, — а станковые пулеметы, установленные в траншее, работали безотказно.
Рубен снял трубку и стал докладывать капитану Сергейчуку, что в их полосе обороны уничтожено шесть танков. Сергейчук насмешливо переспросил:
— Шесть? А не больше?..
— Я и сейчас их вижу, — сказал Рубен. — Один почти добрался до траншеи.
— Этот можно считать! — весело подтвердил комбат. — И еще два. Я, знаешь, люблю точность. Вы уничтожили три танка, и молодцы, а еще три подбила артиллерия. Да, тот самый товарищ Артем! Впрочем, не будем спорить — у нас общая касса. Итого — шестнадцать машин!
У комбата было приподнятое настроение, и голос стал моложе, звонче:
— Знаешь, сколько их было, танков? Шестьдесят! И шли, пижоны... как шли! Теперь, наверное, почесываются: крепкий орешек Березина!
Рубен подумал: сейчас капитан ненароком снова справится о брате. Может, попросит позвать к телефону. Что ему сказать?
Но Сергейчук засмеялся:
— А мост... Ей-богу, красив! Будто дразнит их, паршивцев: вот я, близко, да не достанешь, не возьмешь! Тут у меня был корреспондент, удалой малый, это его слова.
Рубен понимал Сергейчука: люди по-разному торжествуют победу; комбат торжествовал ее в этом разговоре.
Резко меняя тон, комбат сказал:
— Шутки в сторону. Они прощупали оборону и двинутся опять. У тебя мало людей и нужна подмога... Ты знаешь такого орла, сержанта Клавича?
— Знаю. Из моего взвода. Смелый боец...
— Только что прибыл с десятью солдатами и с «максимом», просится к тебе.
— Спасибо, — обрадовался Рубен. — Вот за это спасибо!
— Сейчас отсылаю. А братишка пускай позвонит. Может, если найду время, сам побываю у вас.
Трубка стала тяжелой, и Рубен осторожно положил ее на рычаг. Как случилось, что он взял на душу неправду? Иногда промолчать — все равно что солгать. Старый санитар был уверен, что так лучше. А теперь этот груз не давал Рубену покоя: там, в своем блиндаже, Савелий Сергейчук ждал, когда ему позвонит Сережа Сергейчук...
«Виноват, и нету вины». Формула Клавича лишь объясняла ситуацию, без оправдания. Что ж, сейчас он снимет трубку и скажет комбату: ваш брат убит. Для этого и не нужно мужества, достаточно равнодушия. Но если пожилой санитар был прав — комбат руководил боем, и не следовало его огорчать, то разве сейчас, когда трудная радость пришла в командирский блиндаж, пришла, быть может, лишь на минуты, нужно ли было это сделать?
Раненых уже эвакуировали в тыл. Их переправили на левый берег лодкой. Еще хорошо, что каменная опора моста прикрывала лодку.
А двум другим солдатам на другой лодке повезло: они открыто причалили к берегу и доставили в траншею горячий обед. Эти двое под огнем побывали впервые, и приключение казалось им веселым. Смешливый курносый парень, щедро наполняя котелки пахучим борщом, удивленно сыпал скороговоркой:
Такой он спокойный, фронт... Самый обыкновенный! И речка негромко плещется, и берег тих. Тут много стрижей по берегу в обрывах водится: куда ни глянь — норы. Я и подумал, что это стрижи над водой играют, только и слышно: ж-жих, ж-жих! Понимаете, не тотчас смекнул: матушка моя, да ведь это ж пули! Щепка от весла откололась, тогда сообразил.
Корочкин тихо смеялся, могучие плечи его мелко тряслись.
— Оставайся на ночь, хороший семинар пройдешь!
— У каждого своя служба, — строго сказал солдат. — Может, братец, котел борща десятка снарядов стоит.
Корочкин охотно согласился.
— Истинно, и борщ даже приятный на вкус...
Рубену нравились эти парни: спокойные, деловитые, чуткие к шутке. Они были молчаливее его соотечественников из Бискайи, сдержаннее, суровей, но юмор, как он заметил, никогда их не покидал, и был он выражением той доброй удали, которую он сразу почувствовал у этого большого народа, едва зашагал по его земле.
Сержант Клавич и рядовой Лошаков прибыли первыми из пополнения и доложились строго, по форме.
— Отдыхайте — сказал им Рубен. — Правду сказать, ваш приход — приятная неожиданность.
Маленький учитель улыбнулся:
— На фронте и час роднит. Мы с вами сразу пошли бы, да не было приказано. А когда у моста рвануло, ну, Кузьма Лошаков показал бег! Он за три секунды там, под аркой, очутился... Возвратился, смеется: жив наш Буря, говорит.
— Не знал, что у меня и кличка имеется, — заметил Рубен. — И такая громкая — Буря?
— Касательно артикуляции наш Кузьма слабоват, — сказал Клавич, — он вашу фамилию по-своему перекроил. Меня и совсем женским именем называет: «товарищ Клавочка»!
Подошли и другие солдаты, прибывшие с Клавичем, потные, запыхавшиеся от бега; бережно приподняли и поставили на выступ пулемет. Как видно, они были уверены, что сразу же вступят в бой, но комроты приветливо и совсем запросто поздоровался и кивнул поварам.
— Сначала ребятам обед — дела потом.
Лошаков обернулся, шепнул кому-то из солдат:
— А что я говорил? На самой передовой тут порядок!..
И Клавич и Кузьма были довольны переброской на передний край, а другим солдатам нравилась эта их лихость. Только задумчивый Корочкин, старательно грызя мосол, уронил словно бы невзначай:
— Эх, сказал бы словечко, да волк недалечко. У другого смелость до первой царапины.
Клавич насупился, а Кузьма усмехнулся:
— Ошибаетесь, уважаемый, смелость не вывеска.
Откуда-то появился напарник Корочкина, затряс чубатой головой, замахал перед Кузьмой ложкой, забасил:
— Не в ту сторону разговор свернул, приятель!.. Знай, что товарищ Корочкин сам нынче два танка подбил, а третий мы вместе с ним грохнули. С таким товарищем только на «вы».
Кузьма удивленно качнул головой:
— Ты показал бы нам героя...
— А товарищ Корочкин заняты. Разве не видите, они кость обгладывают...
Корочкин прыснул и отбросил в сторону кость.
— Ну, личный секретарь! И никогда не даст вдосталь напитаться. К чему афиши вешаешь, что тут тебе, цирк?
Кузьма схватился за голову и прошептал изумленно:
— Братцы мои... Да ведь это же Андреев! Борис Андреев... Сколько раз я наблюдал вас, уважаемый, в кино! «Спят курганы темные...» Понимаете, это моя любимая песня!
Корочкин смущенно улыбался; крупное, доброе лицо дышало здоровьем, в глазах блестела лукавинка.
— Что ж, мне и дома так говорили.
Присаживаясь рядом с комроты со своим котелком, Клавич заговорил увлеченно:
— До чего ж наблюдателен и тонок наш Лошаков! Обратите внимание: ключ к собеседнику без усилия подбирает. Я тоже, как глянул на этого Корочкина, сразу подумал: где же я его видел? И точно — Андреев, открытая душа. Вот личность: красавцем не назовешь, природа вроде бы без топора не обошлась, а глянет, улыбнется — и на душе радость. — Он спохватился, стал шарить по карманам. — Ах ты, беда... Забывчивость не к добру. К вам личная просьба от комбата: лейтенанту Сергейчуку пачку «Беломора» передать. И письмо. Кажется, письмецо от мамаши...
— Я не выполню эту просьбу, — помедлив, сказал Рубен.
Клавич отложил ложку, вытер губы.
— Комбат собирается к нам.
Рубен взял из его руки письмо и положил на ящик под хронометры.
— Знаю. А папиросы отдайте солдатам.
Клавич осторожно отодвинул котелок.
— Трудно вам. Трудно и комбату: вы его вроде бы прикрыли, а теперь?
Мимо Клавича по траншее широко шагнул солдат, задержался перед Рубеном:
Прибыл комбат...
— Смир-рно!..
Солдаты повскакивали с земли, оправляя пояса, гимнастерки. Рубен и Клавич тоже поспешно встали.
Вдоль траншеи медленно шел комбат. Шел он, прихрамывая и глядя в одну точку, и этой точкой было лицо комроты, а больше капитан ничего и никого не замечал.
— Подождите, — сказал он негромко, по-прежнему глядя в глаза Рубену, будто силясь его узнать. Все вижу сам. У вас осталось двадцать семь человек. Одиннадцать прибыли. Значит, тридцать восемь. Какая же это рота?
Из рукава комбата свешивался конец бинта, грязный, меченный йодом. Сергейчук заметил его, со злостью рванул и отбросил.
— Два взвода на переправе. Следуют к вам.
Он выше поднял голову, внимательно посмотрел на солдат, и взгляд его смягчился:
— Рота сражалась достойно. Перехваливать не хочу, но перед соседями нам не стыдно. Командир полка майор Новиков доволен, а штаб дивизии ставит нас в пример.
Он улыбнулся, и эта улыбка была неожиданно ясная, мечтательная, как у выздоравливающего больного. Рубен заметил, что глаза у комбата были не блеклые, а синие, цвета просвеченной морской волны.
«Сейчас он спросит, — подумал Рубен. — Он уже ищет кого-то глазами...» Комбат шагнул к ящику, наклонился, отодвинул хронометры, взял письмо и спрятал его в карман гимнастерки.
— Перехвачено радио противника, сказал он солдатам. — Атака начнется в четырнадцать ноль-ноль. А для нас прежний приказ в силе — стоять до последнего.
Ветер порывом сорвался из-за бруствера, закружил пыль и сбитую траву. Резко запахло перегаром бензина и жженым железом. Шумно, словно у самой траншеи, плеснулась речная волна.
— К перемене погоды, — сказал Клавич.
— Да, нам-то все равно, беспечно ответил ему Лошаков.
Комбат обернулся к Рубену и негромко спросил:
— Скажите, вы можете уважать человека, если он вызывает у вас чувство жалости?
— Я думаю, да. Могу уважать. И очень. Например, сильный человек ранен.
— Почему не сообщили мне о брате? Я же спрашивал. А пять минут назад...
— Я опасался этого разговора, — откровенно сказал Рубен. И виноват, и нету вины... Но жалость... нет, это совсем другое, товарищ комбат.
— Теперь я знаю, — сказал Сергейчук.
УДИВИТЕЛЕН ЧЕЛОВЕК!
Предсказание Янки Клавича сбылось: вечером полил дождь. Но до вечера прошли не часы — бесконечная полоса времени, и то, что происходило утром, казалось очень далеким.
Приближение самолетов возвестил медленный гром. На западе над черной каймой леса повисла растрепанная туча. Она стала заметно расти, понизу водянисто-серая, сплошная, в ней возникали размеренные перекаты грома. Но туча оставалась далеко, а гром все накатывался, тяжелее встряхивая и уплотняя воздух, а потом над землей, в прохваченном мглой пространстве неба, разошлись какие-то скрепы и хлынул гремучий сухой треск...
Такого количества самолетов, одновременно поднятых в небо, Рубен не видывал никогда. Они шли огромным клином, острием, нацеленным на мост, неуловимо прикрепленные машина к машине, и незримые опоры едва удерживали эту тяжесть, и солнце гневными всплесками просверкивало на их плоскостях.
Вскоре оно померкло в ночи, которая поднялась снизу, от земли, от взрывов бомб на приречной долине.
Траншея прорезала слой супеси и кое-где пласт мокрой глины. Осколки не зарывались в пласт, приваривались в бок разреза. Так они и держались, как ракушки за днище корабля, большие и малые, угловатые, рваные, битые, поблескивая изломами металла. Солдаты шутя говорили, что эта глина — ровня броне и, значит, вся Березина — бронированная.
Рубену эта шутка вспомнилась в начале налета: пласт покачнулся от удара и где-то со звоном треснул, и разобщенные его части задвигались под ногами, ломаясь, будто лед на быстрине. Странным было ощущение непрочности земли, словно бы там, под коркой глины, открылась зыбкая глубина и тонкий верхний пласт скользил над нею и прогибался.
Взрывная волна ударила по траншее наискось, схлестнулась с встречной, закружилась лохматым смерчем, и минуту, а может быть, больше Рубен не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни повернуть голову, втиснутый в разрез пласта. Он не испугался, наверное, не успел, а возможно, что чувство самосохранения, страха иногда переходит в свою противоположность: ведь главная опасность заключалась не в том, что он может быть убит, а в том, что именно здесь, на его, Рубена, рубеже, противник мог смять оборону и прорваться к мосту.
Наконец-то ему удалось оттолкнуться от стенки. Ноги завязли в рыхлой осыпи, он споткнулся и упал. Рука прикоснулась к чему-то округлому, мягкому. Плечо? Да, плечо и вот лицо. Он отдернул руку. Чья-то щека была холодна и тверда, а шелковистые волосы, как теплая вода, проструились сквозь пальцы. Невольно подумалось: зажечь бы спичку — кто? Но мысль показалась нелепой: до этого ли сейчас?
Он стал продвигаться к пулемету. Землю снова качнуло рывком снизу вверх: густая, осязаемая темень сошла волной. Солдат у пулемета встрепенулся, лег на бок, уступая рядом с собой место Рубену.
— Карусель... Чертова карусель!.. Слышал я про такое...
Это был напарник Корочкина; низкий басок его звучал где-то далеко, хотя сам он был рядом. А вторым у пулемета, да, Рубен не ошибся, был сержант Клавич.
Янка резко вскинулся и что-то крикнул, но Рубен не расслышал слов. Над траншеей вдруг повис колокол — так представилось Рубену; огромный, неправдоподобный охвативший все полукружие склона, и мост, и берег реки, он спускался все ниже, громыхая каждой своей незримой частицей, и они были в самой коловерти этого звукового урагана.
— Ну, черт драповый, и оглушил, будто обухом, и напылил до небес! — отплевываясь, зло выговорил Янка, и по тому, что голос его прозвучал отчетливо, Рубен понял — самолеты ушли.
Человеку немного нужно для радости, и подчас она уживается рядом со смертью. Янка был рад, что комроты рядом с ним, почему-то его влекло к Рубену.
— Знаете, сколько они морочились с нами? — вытряхивая из-за воротника землю, спросил Клавич. — Я засек по часам. Сто двадцать девять минут, или почти три академических часа!
— Разыщите связиста, — сказал Рубен. — Провод, конечно, порван...
Он спрыгнул в траншею и оступился: под стенкой, расправив плечи и откинув голову, сидел лейтенант Сергейчук. Глаза его были открыты, губа зло прикушена, брови упрямо сведены к переносице. Что поразило Рубена: рука лейтенанта, он опирался о груду глины, словно пытаясь встать, в изгибе, в упоре руки замерла живая сила. Рубен вторично почувствовал, как сквозь пальцы проструились волосы, легкие, льющиеся, как теплая вода.
— Гляди-ка, даже мертвых пораскидал, стервятина... — сказал кто-то рядом. — Там, за траншеей, тоже двое лежат.
Будто очень давнее дело, Рубену припомнилось распоряжение комбата: ночью убитых переправить на левый берег, чтобы с почестями предать земле.
Им довелось, мертвым, остаться на своем последнем рубеже не отделенными от живых, рядом с живыми.
Приподнявшись на груду обрушенной глины, Рубен осмотрелся. Траншеи больше не было. От дальнего проселка и до реки беспорядочно громоздились отвалы земли и чернели ямы. Берег тоже был другой, сплошь изрытый колдобинами. За открылком отмели появились островки. На струях течения прыгали щепки, изломанные ветки, стебли камыша. У каменной опоры моста крупные взмылки пены были похожи на серых птиц.
Мир неуловимо изменился. Стал он печальней и строже. Тишина обиды и усталости простерлась над землей. И Рубен подумал: «А люди? Удивителен человек! До чего же он удивителен, наш воин: на этой пережженной, много раз перевернутой, умершей земле, где и живой былинки, наверное, не осталось, он продолжал заниматься своими обычными делами: перевязывал раны, чистил оружие, делился махоркой, утешал и посмеивался — он жил». Кто-то громко стонал, и веселый голос приговаривал:
— Э, голубчик, да ведь тебя бомба спасла! Присыпала с головой и... выручила. Ты, голубчик, господину Круппу благодарствие напиши...
Было чему удивиться после такого землетрясения: убитых в роте оказалось лишь трое, а раненых — семеро бойцов. Рубен почувствовал себя уверенно. Все пулеметы уцелели, боеприпасов было пока достаточно. Рубен понимал, что после налета авиации начнется артподготовка, а затем снова двинутся танки.
— Как там у тебя? — спросил по телефону комбат.
— Согласно приказу...
Сергейчук усмехнулся:
Ты отвечаешь штампом. Впрочем, сейчас не до красот речи. Докладывай подробно.
Он выслушал Рубена, не прерывая.
— Раненых — на левый берег. Не медли. Сейчас опять начнется. Сначала, конечно, артподготовка. Они от правил не отступают, педанты... Ну, потом танки и автоматчики. Если удержитесь — завтра вас сменят. Но это я говорю «если», а ты не слышишь, ты знаешь одно: стоять.
— Согласно приказу... — повторил Рубен и тут же мысленно ругнул себя: дались тебе эти два слова! Но комбат и не ожидал другого ответа и положил трубку;
Если бы Рубен слышал, что Сергейчук сказал уже не ему, другому человеку, корреспонденту армейской газеты, который находился на КП батальона, пожалуй, он покраснел бы.
— Мальчик, — сказал комбат. — Он, понимаешь, оберегал меня. В течение трех часов не сообщал о моем брате. Трогательно, правда?
Корреспондент в звании старшего политрука двинул плечами и промолчал.
— Военная служба, — продолжал комбат, — издавна узаконила печатки: «Так точно», «Слушаюсь», «Никак нет». Иногда за печатками не рассмотришь человека. Мне этого мальчика просто, как брата, как Сережу, хотелось бы обнять, но он мгновенно становится по стойке «смирно» и между нами — «так точно», «согласно приказу»...
— Его рота проявила высокую стойкость, — заметил корреспондент. — Я побываю у них и напишу. Что ж, нашим мальчикам отваги не занимать.
Он заглянул в список, лежавший перед комбатом, и встрепенулся:
—Фамилия?.. Да есть ли другая такая? Ты знаешь, кто он?..
Капитан покачал головой.
— Однофамилец. Уверен, он сразу же сказал бы — кто и откуда.
— Твой брат, Сережа, не терпел предпочтения, — напомнил политрук. — Он даже просил о переводе в другой батальон. И этот паренек не хочет выделяться. Война для всех одной мерой: победить или умереть.
Но комбат был упрям в своей уверенности.
— Позже ты убедишься, что это однофамилец.
У меня ведь есть Суворов. А у соседей есть Артем Сергеев, хотя, как нам известно, человек тот славный давно погиб... Писать о нас рановато. Нам предстоит главное испытание: удержать рубеж. Если мы устоим— напишешь. Тогда я и сам попрошу: напиши.
ЖИЛ МАЛЬЧИК В ГОРОДКЕ СОМОРРОСТРО...
Туча встала в полнеба синей обрывистой горой. Ветер сорвал с ее вершины растрепанные космы и свернул в крутую спираль. Свет солнца, уже уходившего к закату, бил в нее наискось снизу вверх, и, собрав лучи, она простирала их, как крылья.
Рубен лежал у пулемета рядом с Клавичем, и смотрел на дальний лес, на синюю тучу, на эту крылатую спираль в изломах, в расплесках света, и думал о том, что нечто подобное когда-то уже было: такой же вечер, предгрозье, настороженный шорох волны, ощущение близкой опасности, смутное томление сердца.
Где это было? На Эбро? Нет... И не в Мадриде. Он вспомнил: это было в концентрационном лагере Аржелес, на самом берегу Средиземного моря» в старой доброй Франции, когда он с двумя друзьями готовился к побегу и помогала им... гроза.
Вспомнились стихи Артура Рембо, он слышал их, находясь во Франции, в том же Аржелесе, и они накрепко врезались в память:
Подлецы, наводняйте вокзалы собой.
Солнце выдохом легких спалило бульвары.
Вот на Западе город расселся святой,
Изводимый подагрой и астмою старой...
«Париж заселяется вновь...» Эти строки, полные гнева и желчи» были пощечиной палачам Коммуны. Но буржуазия опять заселила Париж, а наследники Тьера встретили израненных бойцов республиканской Испании огромным венком... из колючей проволоки. Это был концлагерь Аржелес.
И еще Рубену припомнилась русская песня. Как она залетела в Бискайю, в шахтерский городок Соморростро, минуя границы? Видно, у песни свои законы и она не знает границ.
Здесь штык или пуля, там — воля святая,
Эх, темная ночь, выручай...
Да, было такое же предвечерье, и так же надвигалась громадина тучи, насыщенная грозой, и пахло вялыми травами, и тихо поскребывала о песок волна, и слово песни властно стучалось в сердце...
Клавич придвинулся ближе и негромко спросил:
— О чем вы задумались, товарищ командир? Я замечаю, вы часто задумываетесь. Что ж, я и сам склонен к размышлениям. Знаете, о ком я думал? О вас...
— Ну, Клавич... Чем же я заслужил?
Янка подпер ладонью щеку.
— Сколько солдат на переднем крае столько миров. Каждый солдат — это отдельный, огромный мир со своей судьбой, никогда неповторимой. Возьмем, например, меня. Что я собой представляю? Живая, неприметная частица родной земли, преславной и чудесной Беларуси, с ее заповедными лесами, с тихими реками, с веселыми полями, с девушками, поющими на закате, со школами, полными детворы... Все во мне: и закаты, и школы, и пройденные дороги, и те, что еще не прошел. Что жизнь моя? Едва приметная пылинка в солнечном луче, а сколько в ней, в пылиночке, преломилось!
— Вы хорошо говорите, Янка. Наверное, вас любили в школе.
— Чтобы особенно, не замечал. Пожалуй, меня считали сухарем. Но разве расскажешь ребятам на уроке про свои размышления о жизни? А сейчас я разговариваю с вами и с самим собой. Ну что ж, быть может, я скоро умру, осколок или пуля не спрашивают: плохой или хороший, а человек тем и примечателен, и хорош, что даже в последние отсчитанные ему минуты хочет знать все больше, больше...
— А что вы хотели бы знать, Клавич?
— Про вас хотел бы знать.
— Значит, о другой пылинке и ее судьбе?
— У меня ненароком получилось, что слово «судьба» я подчеркнул. Я без всякого фатализма, конечно. Вы тоже пылинка. Залетная. Вроде бы и не похожи на меня, но сейчас мы рядом лежим, и, если накроет нас снаряд, значит, умрем мы, как братья, потому что смешается наша кровь. И с этой землей она смешается. Значит, родная и для вас она, моя земля.
— Верно, Янка, родная. И родная она станет не после того, как прольется кровь, нет, уже сейчас родная. Разве много расскажешь о себе? Прожито лишь два десятка лет. Впрочем, я понимаю, жизнь не годами измеряется — делами.
— У меня интерес законный, — помолчав, сказал Янка. — Так, понимаете, и просится романтическая параллель. Байрон за свободу Греции сражался. Наши, русские женщины, Дмитриева, Корвин-Круковская, в Париже, на баррикадах Коммуны отвагу показали. Нашу революцию американец Джон Рид защищал. Венгры, поляки, югославы кровь за нее проливали. У вас, в Испании, наши ребята за республику сражались... Сколько добрых имен! Школьники наши с первых классов эти добрые имена запоминают. Не чаял я, что мне, белорусу, доведется землю родную защищать... рядом с испанцем.
Янка вздохнул и сказал многозначительно:
— На Березине!
Туча уже надвинулась на реку, воздух сделался совсем лиловым, и от леса, над которым встали косые, разлинованные столбы дождя, остро повеяло запахом мокрой коры и томленых трав.
— Вы говорите, Клавич, пылинка, — незаметно увлекаясь, заговорил Рубен. — Это не точно. Мертвую пылинку ветер куда хочешь несет. А живая — человек, со своей мечтой, с любовью, с жаждой большого счастья, наперекор всем бурям идет, какие на его пути встречаются.
— Каждый ли человек?
— Я говорю о настоящих людях.
— Мне это понятно. Однако я часто думаю о Германии. Там же много коммунистов.
— Им очень трудно, Клавич. Труднее, чем нам на переднем крае.
— Пока я не слышал, чтобы немцы добровольно переходили на нашу сторону.
— Что ж, это начало войны: поживем увидим. В Испании я видел, как немцы-коммунисты сражались против немецких фашистов. Итальянские коммунисты против дивизий Муссолини. Там, в глубине Германии, коммунисты, конечно, ведут отчаянную борьбу. Если бы Тельман был один — разве его боялся бы Гитлер? А сколько уже лет Гиммлер казнит соотечественников? Сколько безвестных героев казнено? Быть может, когда-то мы узнаем их имена. Да, им очень трудно, Янка.
На потемневший откос бугра налетел ветер, вскинул жухлые стебли травы, зигзагами переметнулся к насыпи, взвихрил и рассеял пыль, скользнул на реку и оборвался. И стало слышно, как размеренно застучали тяжелые капли дождя.
Где-то близко знакомый басок произнес:
Истинно, как металл, закаляемся: огонь, потом вода.
Ему отозвался приглушенный голос:
— Эх, Вася, хлебнули мы с тобой горюшка...
— Сейчас и еще хлебнем, вон какой потоп движется.
Клавич лежал неподвижно, прижавшись грудью. К разрытой глине, ощущая лицом теплынь земли, похожую на глубокое дыхание. Были приятны и эта предгрозовая тишина, и восковой запах глины, и голос, который казался Янке то доверчиво-близким, то далеким.
Тот первый, острый интерес, который Янка испытал к лейтенанту вскоре после знакомства с ним, теперь усилился; обстановка переднего края порождала у Клавича чувство, похожее на опасение, что он так до конца и не узнает эту необычную судьбу, не успеет узнать.
— Все-таки расскажите мне про себя, — тихо попросил Янка. — И не подумайте, будто я нарочно отвлекаюсь, отгоняю страх... Пустое! Пословица говорит: одному не страшно, а двум веселей... Наверное, потому и веселей, что новое можно услышать.
Рубен помолчал, вздохнул.
— Когда я вспоминаю детство, — тихо заговорил он, — кажется, что все это было так давно... И так далеко, словно в сказке. А в другой раз подумается: не вчера ли? Ну, хорошо, начнем, как начинают сказку.
В некотором царстве, в некотором государстве, далеко за Пиренеями, жил-был мальчик в шахтерской семье, в небольшом городке Соморростро... Вокруг были горы, а рядом море; все моряки мира не хвалят его, строгое оно, с частыми штормами, туманами, затяжными дождями. И земля в том краю тоже сурова: каменистая, с выступами скал, будто кованными из железа. Такая она и есть, Бискайя, страна басков, о которых никто не может сказать, когда и откуда они пришли на тот берег. И другого языка такого, как у басков, нет. А скалы и горы в их краю и правда железные. И тянутся они на многие километры от Сантандерской провинции до Сан-Мигель-де-Басаури, и это железо — богатство басков, но им оно не принадлежит.
Впрочем, я ведь о мальчике из Соморростро... Первое, что он услышал и, что запало ему в память, — песни. Когда они сложены, тоже никто не знает: может, пятьсот, может, и тысячу лет назад. В песнях наши баскские воины сражаются за родную землю, и не прощают обид, и слово «свобода» у них свято. А то, что увидел мальчик впервые, были горы, и шахты, и еще таблички с надписями, кому она принадлежит, земля. Тут разные иностранцы окопались: франко-бельгийская компания, «Ротшильд», «Мак-Ленан», «Лучана Майнинг», «Гальдамес». Ребенку этого странного порядка не понять, но, когда отец возвращался с шахты, мокрый, измученный, злой, и ругал хозяина и его служек, мальчик думал, что наша отвага, наверное, только в песнях, как мечта. Что от такой мечты, кроме огорчения? И почему они все же хранились в памяти у шахтеров, песни? А когда воскресным вечером землячки собирались, пели или слушали певцов, почему это были уже другие люди, похожие на тех воинов?
Сложно все это, Янка, в сознании мальчика распределялось, но ведь он был потомственным шахтеренком — по дедам, по отцу, по дядям и тетям, а такому мальчонке в каких-нибудь восемь лет объяснять не приходилось, кто свой, кто чужой и какие они — шахтерская радость, печаль, обида.
Вы слушаете, Клавич? Я с главного начинаю, с того, каким человеком увидел себя малыш. О чем мечтал мальчик? О том, чтобы ожили те герои, что в песнях. В наивных мальчишеских снах он видел себя среди них. А потом случилось чудо: о них, о героях-басках, говорила его мать с трибуны, и сотни шахтеров, старых и молодых, затаив дыхание слушали ее. Мальчик запомнил, как мать поднималась на помост. Она колебалась какое-то неуловимое время, а седой шахтер поддержал ее под руку, улыбнулся и что-то сказал. Тогда мать словно с усилием сделала шаг вперед, вскинула голову и сразу стала спокойной и сильной.
Рубен приподнялся, сел. Крупные капли дождя падали на его руки, лицо, стекали по губам, свежие и сладкие, как сок арбуза.
Вот с этого и началось, Янка. Мир осветился и приобрел определенные черты. И мальчик не плакал, когда ему пришлось долго стоять у ворот тюрьмы: он ждал, что, может быть, мать выглянет из-за решетки. Над городом, помнится, лил и лил дождь, а мальчик стоял у тюрьмы и все ждал, ждал...
Они помолчали, и Клавич сказал:
— Да, это самое главное — начало. Искра сверкнула: вот она, твоя дорога, иди. Но я хотел бы еще знать...
Что хотел бы знать Янка, Рубену так и осталось неизвестно. Обернувшись, Клавич не увидел комроты... Коротко вскинулась молния. Резко просыпался гром. Молния снова затрепыхала крыльями под низкой, тяжелой тучей; в сполохах ее стало видно как двигался по склону косматым сплошняком ливень.
Рубен поднял гранатометчиков.
— Сейчас пойдут танки. Ливень — отличная маскировка. Немцы вымерили каждый метр расстояния до нашей траншеи. Значит, встретим их там, где они нас не ждут. Выдвинуться вперед на двадцать-тридцать метров. Окапываться? А мало ли воронок? Мы им дадим бой.
На этот раз обошлось без артиллерийской подготовки. Пошли танки. В струях дождя, в переплесках света громоздкие машины возникали смутными силуэтами, приближались, трудно месили глину и брызгали длинными рыжими вспышками огня.
Сосчитать их не было возможности. Рубен вспомнил о связке гранат, переданной ему солдатом для «салюта». Гранаты можно было взять и поближе, но эта связка запомнилась. Она лежала на его вещевом мешке, в ящике, под телефоном.
Случайно, а может быть, и намеренно перед ним поднялся со дна траншеи Корочкин. Он был без пилотки, чубатый и мокрый. Гимнастерка вплотную облегала его крутые плечи, мощную грудь; при вспышке молнии он показался Рубену литым из черного металла. Корочкин, наклонившись, настороженно спросил:
— И вы?
— Да.
— Может, повремените, товарищ командир...
— А чего ждать?
— Может, мы сами их... расчихвостим?
— Пошли, сказал Рубен.
Корочкин тронул его за локоть:
— Минутку. Вот возьмите. У вас-то одна...
Ну, это дело! — сказал Рубен. — За это, брат, спасибо.
Он взял вторую связку гранат.
РОТА ВЕДЕТ БОЙ
Да, таким он и представлялся Рубену, бой с танками врага: как аврал моряков на последнем пределе шторма, как лютое столкновение стихий; и еще этот ливень взахлест, и поток по колени, а земля враскачку — рытвины, воронки, топь.
Танк сунулся по зыбкому месиву суглинка, по колдобинам, лужам, кочкам, как утюг, и струи дождя с разлету дробились на его плоскостях и гранях, становясь туманом, и был он весь — напряжение, скрытое за пластинами брони, где билось и пульсировало то, почти живое, что нужно было сломать, поразить.
Не заметили. Еще бы, заметить в двух шагах! Рубен помедлил, пока машина проволокла через ухабину свой низко посаженный зад, привстал и неторопливо, точно почти положил связку гранат под гусеницу. Он успел отпрыгнуть, упасть, и через несколько секунд грянул взрыв. Там, в танке, сразу почувствовали опасность. Гулко ударила пушка, защелкал пулемет, машина метнулась в сторону, пытаясь развернуться, но спереди грохнул еще один взрыв, И танк остановился.
Корочкин снова оказался рядом е Рубеном, он тяжело дышал:
— Вот мы его на пару... Здорово?!
— Подожди, не празднуй, он дает задний ход...
— А каким это макаром, если обе гусеницы отлетели?..
Они одновременно поднялись из лужи.
— Для верности бутылку с горючкой на мотор...— сказал Рубен.
— Имеется в запасе.
Но Корочкин не успел швырнуть бутылку. Близко в завесе дождя роем заметались искры, и Рубен подумал: «Пулемет...» Экипаж второго танка заметил их. Наверняка заметил. Случайной такая очередь быть не могла. Впрочем, особого вреда она не причинила. На Рубене рванула гимнастерку, обожгла плечо. Ползя по грязи, он выбросил вперед руку: боли не ощутил, значит царапина, главное, чтобы не задело кость. Корочкин прохрипел обиженно:
— Ухо продырявили, шельмы! Ну, я им за ухо… повытрясу мозги!
Танк показался Рубену огромным, наверно, потому, что солнце уже было на, закате и ливень ломал косые лучи. Скошенная перспектива то уменьшает, то увеличивает предметы, и сейчас она, пожалуй, втрое увеличила танк. «Подавить гусеницами...» Так выражаются танкисты. Военный термин исключает эмоции. «Вот оно, «подавить гусеницами», — подумал Рубен. — Постой, сумеешь ли, дьявол тебя дери!»
А выжидать не приходилось. Он подумал и об этом. Мозг всеобъемлющ: он фиксирует каждую подробность; которую замечает глаз, и строго засекает время. Больше ни секунды в запасе не было: два черных потока грязи летели прямо на Рубена, и уже было ясно, что за оставшиеся мгновения они не отклонятся в сторону, не успеют.
Теперь промахнуться нельзя. Он вскидывается на колено. Бросок. Связка летит навстречу танку, падает в намеченную точку, и еще быстрее, подломив колени, падает Рубен. Он распластан в трясине, и ливень бьет ему в уши, в глаза.
«Нечего делать...» Словно кто-то другой произнес эти слова, и они показались ему странными: бой, и нечего делать? И тут он вспомнил: у него больше не было гранат. Но зато салют... Да, салют был отличный, товарищ, пусть станет пухом тебе земля!
Танк надрывно выл и кружился на месте, в густой и жирной как деготь воде: громоздил гору грязи, расплескивал ее и опять громоздил, а колдобина под ним становилась все глубже, и он проседал в нее тяжкой тушей. И Рубен вдруг заметил, что за этим чудищем волочился лохматый хвост.
Ну, Корочкин! Молодчина! Он успел «для верности» бросить бутылку с горючкой, и теперь дождь захлестывал пламя, но погасить не мог. И едва Рубен понял, что хвост у танка — это дело его, Корочкина, расторопных рук, он заметил при всплеске молнии, как что-то бултыхнулось в ухабине, в черной воде. Почему-то с уверенностью Рубен подумал: Корочкин ранен... И сразу не стало танка — сознание переключилось, осталась только эта черная ухабина, вырытая бомбой и по кромку захлестнутая водой, и в ней солдат, друг...
Где-то близко разнотонно гудели моторы, сочно чавкала грязь, глухо рвались гранаты, смутно доносились голоса. Дождь уже ослабел, но видимость стала хуже — сырой, в багровых проблесках вечер надвинулся на Березину.
Рубен не ошибся: Корочкин был ранен и сейчас, беспомощный, захлебывался в глубокой воронке. Он взял солдата за плечи, с усилием приподнял, но лица не различил, только белки глаз. Корочкин встрепенулся, тряхнул плечами и выскользнул из рук. Рубен наклонился, обхватил солдата поперек груди и стал тащить в сторону траншеи.
Громоздкое тело Корочкина тянуло к земле, а почва под ногами скользила и расступалась. Рубен падал, снова обнимал солдата и полз. Ему нельзя было забывать о двух подбитых танках, которые остались позади, никак нельзя было забывать. Из танков наблюдали за всем, что происходило вокруг. И когда медленная волна света хлынула от ракеты сквозь дождь, силуэт двух фигур, будто замерших в единоборстве, резко обрисовался над росплесками луж.
В этом сполохе, зыбком и текучем, Рубен успел заметить на бруствере траншеи танк... Хорошо! Танк дымился. Но по открытому склону, наклоненному к реке, двигалось много машин, и некоторые из них были близко...
«Встретим горючкой, — сказал себе Рубен. — Что ж, мы этого ждали». Он подумал, беспокоясь, что его, наверное, уже вызывал комбат и что нужно сейчас же позвонить и доложить обстановку. Какова она? Рота ведет бой. Рота ни на шаг не отступит...
До бруствера оставалось два десятка шагов. Кто-то вскрикнул то ли удивленно, то ли. испуганно:
— Скорее... Пулемет!
Рубен узнал голос Клавича. Откуда вдруг появился Клавич? И почему он толкнул Рубена пониже плеча?.. Рубен пошатнулся и упал. Он упал рядом с Корочкиным и лужа зазвенела и рассыпалась, как разбитое стекло.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО
...Ты спрашиваешь, Янка, где он находится, мой город Соморростро, большой он или малый, рабочий, торговый или чиновничий, красивый или нет? Но сначала, обрати внимание на это чудо: время вдруг изломилось, как солнечный луч в стекляшке, и я могу говорить с тобой словно бы из моего, детства. Видимо, то, что пережито, не исчезает: в памяти есть место для света, для ветра, для запаха трав и непременно для того часа, когда человек: впервые осматривается вокруг, изумляясь огромности мира.
Давай пойдем вместе, Клавич, по кривой улочке моего города и детства, мимо сгорбленных домишек, чахлых акаций и каштанов, мимо пестрых и торжественных, как флаги расцвечивания, гирлянд белья, что сушится вдоль каменных оград после стирки, выйдем на
главную площадь, где сверкают витрины магазинов, полные таких чудесных игрушек, что на них без радости нельзя смотреть... Тут мы с тобой увидим, что нет на всем свете города краше, чем Соморростро.
Посмотри: у нас не просто дом, а каменный, да еще и двухэтажный. На первом этаже в нем живут козы; на втором — мы. Козы хозяйкины, потому что и дом хозяйкин, и она очень гордится, что у нее такой старинный дом. А когда ветер дует с моря и непрерывно льет дождь, хозяйка ругает крышу, которая совсем прохудилась и ее нужно чинить. Иногда она ругает и стены, которые осели от времени, и крыльцо — оно покосилось и может обвалиться.
Мне всегда весело слушать, как она ругается, призывая святых — Власа и Хуана, Антония, Риту и Филомену. С этими святыми она, по-видимому, накоротке и потому обращается к ним запросто:
— Глянь-ка, святая Филомена, заступница! моя, исцелительница от зубной боли, до какого хамства плотник и кровельщик дошли, грабят без ножа, тройную цену за ремонт запрашивают. Напусти на них флюс или костоеду, или дай им зубы крокодила, или пусть будут совсем без зубов, как черепахи, чтобы узнали, какой это грех — грабить безутешную вдову!
Очки на ее длинном носу смешно дрожали, а слова сыпались, как щебень из вагонетки.
Разве не весело у нас на дворе: козы блеют, хозяйка ругается, они заглушают ее надтреснутый голос, и это доводит старуху до исступления; она прыгает по двору и громко зовет святого Власа, целителя коров и коз, ослов и свиней, как будто он проживает по соседству.
Если выйти за калитку вниз, в долине открывается город, весь вытесанный из камня, которого вокруг, куда ни глянь, полным-полно.
Камень есть зеленый, как лед, и сизый, как туман, и красный, будто раскаленный на огне, и как ржавое железо, весь в бурых пятнах и полосах, с отпечатками молота, который его ковал.
Все эти камни скатились с гор — так говорила мне тетя Тереза — она добрая и все знает, — скатились и сгрудились у речки. У нас два города, тот, в котором мы живем, и другой — мы его только видим. Он все время плывет по реке, и крыши его домов, и стены, и окна шатаются.
А над городом спит большая синяя туча. Все тучи ложатся под вечер спать, они подбирают свои растрепанные лохмотья, причесывают волосы, становятся спокойными и засыпают. Но эта туча над Соморростро всегда спит. Она огромная и крутая, и у нее есть имя — Монтанье.
Ты догадался, конечно, что это не туча — гора. Так оно и есть: Монтанье даже выше туч, они постоянно за нее цепляются.
Я очень люблю утром или в ясный вечер смотреть на Монтанье; когда всходит солнце, на ней загораются костры и красные искры поджигают небо. А вечером еще лучше. Вокруг совсем темно, и однако вершина Монтанье светится, и, значит, заблудиться невозможно.
Я долго смотрю на дальнюю гору и вспоминаю тетю Терезу, мамину сестру; она говорила мне, что там, на синих склонах, когда-то, очень давно, шла война и осталось много могил. В них спят отважные баски, те самые богатыри, о которых в праздники, по вечерам, у нас так хорошо поют песни.
Что еще, кроме нашего дома с козами, каменного города в долине и другого, волшебного, на реке, кроме горы Монтанье, с ее утренними кострами, осталось в памяти моего детства? Пожалуй, тот случай, когда я ушел от мамы и сам не знал, где находился. Но как это началось?
Было раннее утро, и Монтанье уже зажгла свой самый большой костер, и, когда я вышел за калитку и стал смотреть на гору, соседи сначала громко разговаривали в переулке, а потом умолкли. Я сразу понял: они умолкли потому, что заметили меня.
— Смотрите, вот Рубен Руис, — сказала бабушка Хосефина, та самая, что постоянно вязала у нас на крылечке чулок и курила, Он еще совсем малыш и не знает, что такое тюрьма.
— Пусть бы он не знал ее никогда, — сказал сосед плотник.
Бабушка Хосефина поднесла к глазам уголок фартука:
— Жаль, он узнает ее скоро, когда понесет с матерью передачу в тюрьму.
Плотник подошел ко мне, подхватил на руки. У него была рыжая колючая борода, и, когда она коснулась моей щеки, мне без удержу захотелось смеяться.
— Ты пойдешь к отцу, малыш?
— Пойду.
— А знаешь, где он находится?
— Знаю. В большом доме. Там у ворот солдаты.
— За что же он арестован, Рубен?
Тут я не мог ответить, за что: трое мужчин пришли ночью, приказали отцу одеться, и увели.
Мне было совсем неплохо: взрослые стали меня жалеть, соседские мальчишки не задирались. Они говорили друг другу, будто по секрету: «У этого мальчика арестован отец», и я понимал, что они были готовы подраться за меня с другими ребятами.
Теперь, когда отца забрали и он не вернулся, мама не оставляла меня и сестренку Амаю дома одних. Амая была совсем маленькая, как котёнок, и разговаривать не умела — только пищала, и мать боялась, что мы натворим какой-нибудь беды.
Ну что это было за удовольствие вечерами уходить с мамой в город, смотреть, как зажигались над площадью огни, встречать незнакомых приветливых людей, которые знали маму, и она знала их и, здороваясь, произносила с добротой и уверенностью: товарищ...
Они собирались в большом! доме, который назывался Народным. Темный дом этот, сложенный, как и все дома в нашем городе, из камня, был холоден, гулок и пуст, на его дверях, широких, как ворота, почти постоянно висел огромный ржавый замок. Помимо замка, поблескивала свинцовая капля: ее называли пломбой и говорили, что дом опечатан полицией. Но, кроме большой двери, в доме была еще одна — малая, со двора, и от нее у мамы хранились ключи.
Как интересно было в этом доме! Стукнешь — и кто-то сразу же стукнет в ответ; скажешь слово — и кто-то повторит его еще, громче. Но женщины и мужчины, которые приходили сюда с мамой, старались не шуметь, не стучать и разговаривали вполголоса. Мне очень хотелось знать, о чем они говорили до поздней ночи, и я неприметно вертелся у стола, проскальзывал под стол меж чьими-то ногами, садился на полу и слушал непонятные слова: капитал... штрейкбрехеру... стачка...
Дома каждую свободную минуту мама читала книги. Она приносила их откуда-то в корзине, осторожно выкладывала на подоконник, с интересом заглядывала в серые страницы, становилась серьезной, хмурилась или улыбалась. Можно было подумать, что среди этих книг у нее были друзья и враги, знакомые, которых приятно встретить, и «незваные гости», как называла она тех троих, что увели отца... Но и незваных гостей среди книг она терпела: видно, с ними ей тоже нужно было беседовать.
Иногда я замечал, что мама говорит со мной, а думает о чем-то другом, как будто рассматривает кого-то за окошком. Готовит обед — и заглядывает в книгу. Гладит белье, а книга тут же, на столе.
Поздно, и мы ложимся спать, а ночью проснусь — нет рядом мамы; вместе ложились, и ее уже нет: занавешена лампа, ходики тикают на стене, мама склонилась у стола над книгой, и страницы тихо шуршат под ее рукой.
Я начинал понимать: мама рассказывала шахтерам о том, что прочитала в книгах. Но тут появлялась другая загадка: разве в книгах было написано о нашей шахте «Эль Ойо», о шахтах Каварона, о Соморростро, и записаны имена людей, что сидели за столом, прижавшись плечом друг к другу?
Конечно, записано! — сказал во мне уверенный голос. Все записано! Где еще сыщется город лучше Соморростро? И где найдутся люди смелей и сильнее басков?
Голос говорил во мне громко и весело, и на душе становилось легко-легко...
Почему же шахтеры так насторожились и притихли? Может, и они расслышали мой голос? А, вон оно что! Заговорила мама. Она долго молчала, слушая других, а теперь заговорила. Я тоже притих, примостившись на перекладине под столом, и мне было хорошо ее слышно.
— Вы все знаете, что случилось, — сказала она, и ее голос, нежный и сильный - такой он один во всем мире, голос мамы, — дрогнул: — Вчера я была в тюрьме, К мужу меня не пустили. Но товарищи рассказали через решетку, что ночью его допрашивали, хотели дознаться, кто организатор стачки. Когда его притащили в камеру, он был без сознания и весь в крови. Потом он пришел в себя и рассказал, что жандармы били его о стену головой, а у него носом и горлом шла кровь, и они его ни о чем не спрашивали, только кричали: «Это тебе за стачку... за стачку!»
Как же случилось, что мама забыла обо мне? Она говорила это шахтерам, а мне забыла рассказать. Теперь я вспомнил, что. ночью в нашей комнате кто-то плакал. Я спросил у мамы: «Кто это?» И она ответила: «Ветер».
А сейчас я испугался: в таком неожиданном месте увидел отца. Неверно, будто человека можно увидеть, только если находишься близко от него. Я увидел отца таким, каким привык его видеть каждый вечер, когда он возвращался с работы. Лицо, руки, кожаная фуражка, брезентовая куртка — все было покрыто мокрой ржавчиной руды. Он смотрел на меня с еле приметной улыбкой, которая замерла в уголках губ, как тогда утром, когда за ним пришли трое. «Они тебя били, папа? — Он наклонил голову и промолчал. — Почему ты не взял меня в тюрьму? Они бы не посмели тебя бить. Я сказал бы им, что ты мой папа...» Отец усмехнулся и поманил меня пальцем. Я встал и пошел к нему, не заметив, как выбрался из-под стола.
Наверное, я выбрался очень тихо, шахтеры слушали маму, и никто не заметил, что я подошел к малой двери. За дверью узенький дворик, серая, высокая стена с обрывками афиш, калитка. Там, за калиткой, много скамеек, они стояли рядами, образуя большой полукруг, а внизу находился помост. Все это называлось летним театром — так говорила мама, но я не знал, что в летнем театре и настоящие звезды и вершина Монтанье.
Зачем же вызвал меня сюда отец? А, понимаю, он не хотел, чтобы его увидела мама. Он всегда говорил мне мягко и строго: «Мы с тобой мужчины, Рубен». Сколько раз он напоминал мне об этом! «Ты ушибся, Рубен? Мужчины не плачут», «Тебя ударил мальчишка? Мужчины дают сдачи». Да, он не хотел, чтобы мама увидела его, а я мог видеть, потому что он был уверен: я мужчина и не заплачу, не закричу.
И я не заплакал. Кровь стекала по его подстриженным усам, по уголкам губ, и я смотрел, как она капала на брезентовую куртку, и не мог оторвать глаз.
Нет, неверно, что человека можно увидеть, лишь когда он неподалеку. Так рассуждают взрослые, ведь они всегда и все проверяют. Может, они и не поверили бы, что гора Монтанье в ту ночь придвинулась совсем близко и заглядывала через забор в летний театр? Отца здесь не было, но я видел его. А если видел, значит он был. И темные брызги текли по его усам, а я протянул руку к нему, но что-то затрепыхалось у меня в груди, как подбитый цыпленок...
Странное слово — обморок. Никогда раньше я такого слова не слышал. Женский голос вскрикнул испуганно:
— Смотрите, вот он, у него обморок!
Потом я ощутил лицом теплое дыхание, пахнущее табаком, и мужчина сказал устало:
— Ну, что ты... разве в таком возрасте бывает?
— Тут возраст ни при чем — здоровье, — обиженно сказала женщина.
Чьи-то руки подняли меня, понесли. Потом еще чьи-то руки. О, эти я знал! Это были руки мамы.
— Нашелся... — шептала она. — Мой маленький!
Когда я открыл глаза, звезд над летним театром уже не было, а на вершине Монтанье горели костры.
Это и есть, Янка, первая память моего детства. Первая засечка в памяти, о которой обычно говорят: я помню себя с того дня, когда... Нет, я помню себя с той ночи. Мне было шесть лет, и, если бы взрослые присмотрелись, они бы поняли, что я был ранен.
Шрама не осталось. Впрочем, возможно, он где-то скрыт глубоко. Не от него ли иногда ноет сердце? Оно стало чутким к добру и злу, к правде и неправде, к радости, дружбе, исконной вражде, какую ты знаешь не меньше моего: ее сейчас решают пушки, пулеметы, танки... Ты слышишь меня, Клавич? Я говорю, был ранен. Нет, не теперь... Мы просто устали с тобой, друг, барахтаться в этой трясине и не можем подняться, нет сил. Почему ты кричишь одно и то же: ранен... ранен?.. Кто ранен? Ты?.. Корочкин? Ну, отвечай же, кто?
Клавич пытался поднять Корочкина — и не мог. Большое тело солдата, как будто отлитое из чугуна, накрепко приросло к земле, и Янка готов был заплакать от своего бессилия. Рубена ему удалось протащить несколько метров, но где-то совсем близко опять загремел пулемет и в воздухе замелькали клочья грязи.
Это было ничейное пространство — узкая, не обозначенная точно полоска земли, сплошь изрытая и захлестнутая лужами. На ней чернели вздыбленные, перекошенные, странно-беспомощные танки: некоторые из них казались очень большими, а другие, просевшие в колдобины, совсем малыми. В лужах и на холмиках воронок лежали убитые, как правило, вверх лицом и со сжатыми кулаками, приподнятыми к груди. Янка приметил эту особенность убитых.
Но сейчас ему было не до наблюдений: уже начинало светать, и черное поле боя просматривалось все отчетливей. Он высчитывал расстояние: до траншеи оставалось не более тридцати метров. Если ему не удастся в течение десяти-пятнадцати минут вынести раненых, станет совсем светло, и тогда наверняка не удастся. Рискнуть еще раз, подняться и пойти в открытую. Нет, вражеский пулеметчик не дремал. Он подобрался близко и, пока наши его не засекут, будет приносить беспокойство.
Янка лежал в неглубокой выемке, стараясь не выдать себя движением, весь подплывая липкой, промозглой водой, и думал — как быть? — и понимал, что положение безвыходное. Пулеметчик мог расстрелять его каждую минуту: спасительной оказалась грязь — она сплошь покрывала и Клавича, и Рубена, и богатыря Корочкина бугристой корой, и среди выбоин, кочек, воронок их трудно было отличить от самой земли.
Рассвет над Березиной был скуп и одноцветен: сквозная каемка над зубчатым лесом, смутный блик на железном ребре моста, редкие брызги желтка на густой как деготь луже.
Клавич осторожно повернул голову и стал смотреть на изрытое поле, надеясь заметить пулемет. Что это могло бы изменить? У него даже мелькнула отчаянная мысль: убрать пулемет... А разве к нему подберешься? Пусть открывает огонь, важно успеть швырнуть гранату. К счастью, у Янки осталась одна граната.
— Нет другого исхода, Янка, нет! — говорил он себе и смотрел на поле, где над месивом глины поднималась тоненькая ольха, окруженная кустом молодых побегов. Как она уцелела, такая хрупкая, в суматохе боя? Клавич подумал об этом и одновременно о другом: где же еще укрыться пулеметчику, как не за тем кустом у ольхи? Там и действительно что-то мелькнуло, затронув гибкие ветки молодняка, и Янка извернулся всем телом, опустил голову и стал ползти.
Он продвигался осторожно и быстро, втискиваясь локтями, грудью, коленями в грязь, и, когда всколыхнулся ветер, Янка расслышал дробный шум листвы — та одинокая ольха была уже близко. Но с шумом листвы он расслышал и другие звуки: возню, хрипение, стон. Клавич приподнял голову: прутья куста качались, там, за прутьями, что-то хрустнуло, оборвалось, и голос, ломкий от ярости и натуги, вскрикнул:
— Гады!.. Подлые!.. Так вы... берете... языка?!.
Клавич вскочил на колено и рванул из-за пояса гранату.
— Стой... — голос его сорвался. «Нет, эти не подчинятся».
Куст закачался, затрещал, вскинулась чья-то рука, стараясь раздвинуть густые прутья, и голос Кузьмы, да, Кузьмы Лошакова, приказал отрывисто и грозно:
— Бросай гранату... Их трое... Моя воля — бросай!..
Янка забыл о пулемете. Он понял, что происходило за кустом. Собственно, он понял все еще в те короткие секунды, когда услышал возню и стон. Вот как они, «рыцари», захватывали «языка». Они приползали ночью, после боя, на ничейную землю и уносили наших раненых, чтобы потом с ногтями, с кожей, с жилами вырывать у них сведения.
Невыносимая, немыслимая тоска хлынула в сердце Клавича, и он исполнил приказ Кузьмы. Он швырнул гранату.
А пулеметчик укрывался не за кустом. Несколько в стороне от ольхи склон прорезал крутобокий овражек — он уходил зигзагами к реке. В ливень его размыло, и он стал глубже. На его кромке и был установлен пулемет.
Янка услышал частый, отрывистый рокот и сразу же увидал, как по луже, расплеснутой вокруг, полоснуло хлыстом. Он бросился в сторону, поскользнулся, но удержался на ногах. Глинистый борт колеи, наверное, выдавленной танком, сочно зачавкал, брызнул грязью. Клавич отпрыгнул еще дальше, оглянулся и увидел... Рубена. Комроты пытался привстать. Почти всю ночь он был без сознания, а теперь пришел в себя.
Клавич побежал к Рубену. Невидимый хлыст метался под его ногами, со свистом впиваясь к землю, то совсем близко, то впереди, то позади.
Главное — добежать... Ничего важнее не существовало, не могло существовать.
Он подбежал к Рубену, толкнул его, свалил на землю и закрыл собой.
— Кто ранен? — громко спросил Рубен.
Клавич не ответил. Он потерял сознание.
— Нам повезло!.. Как видно, есть на свете счастье! — говорил капитан Сергейчук старшему политруку, корреспонденту армейской газеты, который недавно побывал у него, а сейчас навестил вторично. — Да, теперь ты, пожалуй, мог бы о наших ребятах написать: они отбили и эту ночную атаку. А ведь силы неравные. До обидного неравные, и каких-нибудь особенных укреплений у нас нет. Ночью нас атаковали шестнадцать танков. Это сила. На таком узком участке фронта — большая сила. Стальной таран. Однако здесь, неподалеку, оказалась батарея Артема Сергеева. Слышишь? Артем, да еще Сергеев — везет же нам на громкие имена! Здорово батарея Артема Сергеева по всей танковой армаде грохнула! И вот что... хочешь чайку?
Гость засмеялся.
Даже стаканы уцелели? Живете... Насчет этой геройской батареи я слышал, там мало кто уцелел. Немцы бросали на батарею десятки самолетов.
Комбат кивнул молодому солдату:
— Васенька, голубчик, побалуй-ка нас чайком. Право, светопреставление: десятки самолетов бомбят одну батарею — вот тебе и соотношение сил! Кому другому, только не нам упрекать судьбу. Сидим мы тут, как на курорте: речка, пляж и чаек с вареньем, идиллия, а?
Он поправил у виска промокший бинт, взглянул на пальцы, закурил.
— Счастье еще и в том, что наши танки на помощь нам будто с неба свалились. Да, десять отличных машин. Во время нашего отхода они где-то у Косино в окружении остались, кончилось горючее. Тут выход, казалось, был единственный: машины сжечь, выходить в направлении на Березино. Однако танкисты по-своему решили: пересекли дорогу, остановили немецкую автоколонну, с боем взяли бензин. Потом по дороге расковыряли маленько их второй эшелон и от захваченных врасплох немецких радистов узнали, что бой идет у моста. Ну и возрадовались ребята, и хлынули вслед за ливнем сюда, лихие, горластые, ликующие... Вот истинно солдаты! О них ты обязательно и в первую очередь напиши.
Молоденький солдат поставил на стол две дымящиеся кружки и термос, но и комбат и гость о чае позабыли.
— Я видел танки, — сказал старший политрук. — Они под обрывом стоят. Видел и очень удивился. Где их командир?
— Двадцать минут как ушел к машинам. Зол и нетерпелив — давайте дело. Пока осмотрюсь, поручил ему уничтожить пулемет противника: заядлая заноза, из рытвины все строчит!
Из угла блиндажа молоденький солдат сказал:
— Вас третья вызывает, товарищ комбат...
Сергейчук взял трубку, лицо его напряглось, он прикусил губу.
— Пулемет... Что пулемет? — переспросил комбат, и его движения стали торопливыми. — Не уничтожен?.. Ясно. Оберегайте комроты. За ним придет танк.
Он уронил трубку и кивнул солдату:
— Танк в мое распоряжение. Двух санитаров... На одной ноге!
Проворный солдат прыжком метнулся из блиндажа.
— Третья рота, — сказал комбат, — приняла на себя главный удар. Связь была нарушена, и я не мог дозвониться командиру. Мне было известно лишь одно: они держались крепко.
Он взял автомат, сунул за пояс две гранаты.
— Я был уверен в нем. Я мало его знаю, но был уверен. Ты понимаешь, о ком я говорю? Да, о том лейтенанте с громкой фамилией...
— Я думаю, это ее сын, — сказал старший Политрук.
Сергейчук передернул плечами:
— Возьми автомат и гранаты. Мы едем за ним.
Они вышли из блиндажа.
— И серьезно ранен? — спросил старший политрук.
— Узнаем. Он сам подрывал танки. Что бы там ни было, но эта ночь... Да, на свете есть счастье.
Старший политрук взглянул на часы:
— В девять ноль-ноль получите приказ об отходе. Вы оставите этот рубеж и переправитесь на левый берег.
Комбат словно не расслышал.
— Есть оно... Есть.
Он встрепенулся.
— Пролито столько крови и... отходить?
Старший политрук молвил безучастно:
Согласно приказу...
...Ты так и не прочитал нам лекцию, Янка, о своей родине. Помнится, ты говорил, что все в твоем краю сильное и большое: деревья, травы, хлеба и полноводная Березина длиной в полтысячи километров. Я видел ее лишь здесь, у моста, видел вечером, ночью и на рассвете... Там, на севере, сплошь простерлись леса, и она торжественно выходит из них, как из тайны. Над нею веет живицей сосны, терпким дегтярным подкорком дуба, запахом рыбы и настоем корней камыша — тонкой и хмельной приманкой дороги.
Ты знаешь, как сильна эта приманка, она с дыханием проникает в кровь. Если бы не война и мы знали друг друга так, как знаем теперь, быть может, мы двинулись бы с тобой в эту чудесную летнюю пору бродяжить по твоей реке, по плесам ее, протокам, перекатам; стали бы подстерегать у синих омутов добычу, распознавать след зверя на прибрежном песке, разводить костры на островах, плывущих под звездами.
С детства я любил бродяжить и не раз убегал из дому с ватагой соседских ребят в горы, и мы смотрели со склонов Гальдамеса на свинцовый Бискайский залив, над которым постоянно странствуют косяки дождей и тумана и легкие паруса рыбацких шхун.
Мы спускались и на берег залива, где меж округлых камней тяжело ворочается лохматый прибой, а когда надвигается девятый вал, зеленые скалы вздрагивают от его удара.
Но больше, чем этот хмурый берег, я любил зеленые долины наших рек — быстрой и звонкой Урумеа, веселой и привольной Девы, деловитого Нервьена, виноградной Сестао, порожистой Баракальдо, — что за развеселая работа — смастерить плот, спустить его на воду и плыть мимо тихих деревенек, яблоневых садов, кукурузных плантаций, травянистых лугов, мимо бурых железных скал, старых одиноких буков, зарослей вереска на откосах, где, как развалины замков, темнеют стены древних плавилен.
Раздвигая кусты, мы с трепетом ступали на эту покрытую шлаком почву, где наши прадеды добывали железо, отливали якоря, клюзы, кнехты для своих отважных кораблей, ковали подковы, гарпуны, плуги, кайла и мечи во славу извечной земли басков.
Там, у Студянки, — ты рассказывал об этом, Клавич, — есть перекат, и река неожиданно ускоряет течение. Наверное, он сложен, подводный порог, из оружия и скелетов. Наверное, таковы же пороги на реках Басконии... История записала воинов-басков на свои страницы: они отважно сражались против римлян почти две тысячи лет назад и с тех времен, сколько знает их мир, никогда не подчинялись иноземцам.
У нас, у басков, каждый мальчишка знает славную: историю своего народа, и это понятно: ее рассказывают песни» Прилежный труд у нас так же почетен, как и отвага на поле боя, а скромность и честность — пропуск в любой дом. Нет, я не хвастаюсь, Янка, — к чему это мне, если наши с тобой минуты уже отсчитаны? Ты прав: человек еще и тем хорош, что и в свои последние минуты хочет знать больше. Поэтому я и говорю с тобой так, будто все отдаю, что имею, и я нисколько не жалею о своей судьбе. Может, я первый из басков, которому довелось сражаться за Россию, и где сражаться — на реке ее славы, Березине!
Но теперь и ты расскажи мне, Янка, о своей Беларуси, о ваших обычаях, песнях, о себе — время опять изломилось, как солнечный луч, и мы можем с тобой странствовать через годы... Куда же ты уходишь, Янка, и почему молчишь?
...Доктор остановился перед койкой Рубена, взял его руку, пощупал пульс, спросил:
— Раненый не приходил в сознание?
Пожилая сестра привстала, пошатнулась и села: вагон резко покачивало на стыках.
— Он бредит, — сказала сестра. — Все время вспоминал какую-то Янку.
Доктор улыбнулся.
— Не ново... В соседнем купе солдат вспоминает Вареньку. Наполнение пульса улучшилось. Значит, девушка видится ему к добру. Нужно еще раз перелить кровь.
— Девушка? — повторил Рубен. — Какая девушка ? Мой друг, почему он молчит? Это был Янка. Он ушел?
Вы совсем молодцом, лейтенант, — мягко сказал доктор. — Вы видите меня? Отлично. Обстановка переменилась, это санитарный вагон. Однако вы не пугайтесь, все у вас цело: голова, руки, ноги. Все же ранение серьезное, и вам нужно лежать спокойно.
Опираясь на локти, Рубен попытался привстать, но под левую руку откуда-то плеснул кипяток, ошпарил ключицу, бок, грудь, проник глубоко под ребро. Он упал на подушку и стиснул зубы, чтобы не застонать. Какие новости! Он в санитарном вагоне, и за окном проносятся вершины деревьев, крыши, облака. Янки нет рядом. Только что был, и уже нет. И нет Корочкина. Где они? Сразу не понять, не разобраться. Когда же он очутился в этом вагоне? И зачем это понадобилось доктору — он стал торопливо шарить по груди Рубена длинными, цепкими пальцами и показал термометр.
Свет падал в окошко густой полосой, и стеклянная палочка в длинных пальцах доктора загорелась, вспыхнула нестерпимым пламенем. Поезд миновал глубокую выемку, зеленый сплошняк деревьев торопливо отодвинулся от дороги, и по вагону всполошенно заметались пятна солнца. Стеклянная палочка в длинных пальцах доктора вспыхивала нестерпимым пламенем — он был волшебником, этот человек в белом: огромный шар солнца вертелся на кончике его стекляшки и брызгал летучим серебряным огнем.
— Смотри-ка, Янка, смотри! — закричал Рубен.
Но Клавич не отозвался.
СЧАСТЛИВОЕ МГНОВЕНИЕ
Просторная палата. Большое окно. Чистые, белые стены. Белые занавески. Кровати от спинок до ножек тоже белые. Тишина. Кажется, что воздух, прорезанный несильным, косым лучом, имеет беловатый оттенок.
За окном качается под слабым ветром тонкая и гибкая березка с удивительно яркой, белоснежной корой.
Рубен лежит у окна и внимательно рассматривает легкое, трепетное, наполненное воздухом и светом деревцо. Стекла хорошо промыты и почти незаметны, и Рубену хочется протянуть руку, ощутить прикосновение осторожной, чуточку влажной листвы. Она почти треугольная, усеченная при основании, с пилочками- краями, с пятнами, похожими на иней.
Ему вспоминается солнечный весенний день, когда сойдя с пригородной электрички в Подмосковье, он остановился в березовой роще и не мог избавиться от ощущения, будто окружали его не деревья — живые существа. В облике этих русских березок, вставших полукругом у зеленой поляны, угадывались осмысленные чувства: щедрость, застенчивость, тихая радость и одновременно ясная уверенность в смелой, в неотразимой своей красоте.
А одна молодая береза стояла на поляне отдельно, словно бы только что выбежала из хоровода и волновалась — день был совсем безветренный, но она волновалась каждым листком, смущенная и красивая. Солнце протянуло средь белых ее ветвей густые ряды струн, и — что за чудо! — они звучали... Они негромко, согласно пели голосами невидимых птиц, кузнечиков, майских жуков, и глубокие травы, и теплая земля, и просторное небо России — все было наполнено этой музыкой дня, ясным и бесконечным торжеством жизни.
Таким он и запомнился Рубену, тот день на русской земле, с красавицей березкой как приметой, но удивление и позже не проходило. И сейчас он смотрел на опрятное деревцо за окном, не понимая, отчего оно порождает в нем чувство, похожее на нежность и на радость.
Кроме него, в палате находился еще один раненый — худощавый, пожилой майор, с лицом безжизненным и восковым и как будто уже знакомым Рубену. Майор был из тех раненых, которых обычно хвалят и ставят в пример и сестры и врачи: тихий, молчаливый, терпеливый. Он лежал, почти не двигаясь, будто и не дыша, смотрел в потолок или на свои худые руки, сложенные на животе, и ни о чем не просил, ожидая, пока сестра сама догадается подать воды или поправить подушку. У него был поврежден позвоночник и парализованы ноги, и по взглядам врачей, по их особому, значительному молчанию, когда они осматривали его, нетрудно было догадаться, что дела у майора незавидны.
На обеих тумбочках — перед койками Рубена и майора — в стеклянных вазах стояли цветы, их принесла та пожилая сестра, которая сопровождала Рубена в дороге, она принесла один букет, но увидела, что в палате двое, и разделила его поровну. Впрочем, Рубен не заметил, когда она приходила: усталый от тряски в вагоне, он спал.
Прошло немалое время — вечер, ночь и утро, и сейчас, проснувшись он внимательно слушал ровный, бесстрастный голос майора.
— Теперь мне понятно, — говорил майор, неторопливо, раздельно произнося каждое слово, — да, слава — это исполненный долг и, значит, спокойная, чистая совесть. А при исполнении долга, паренек, в бою, или на тропинках в тылу врага, или при встрече с ним, когда и не ждешь такого, в общем когда решается вопрос жизни, обязательно присутствует одна удивительная подробность. Как бы вернее назвать ее? Пожалуй, счастливое мгновение, или последний шанс. Он обязательно присутствует даже в самой безнадежной обстановке, и важно не растеряться, душевно устоять, он может выручить, право, на грани чуда. Ежели бы я в этот последний шанс не верил, лежать бы мне в кустах за Березиной или, может, болтаться на сосне с веревкой на шее до сего времени. Вот и сейчас я думаю, может, написать статью, скажем для «Красной звезды»? Так и назвать ее — «Последний шанс», или, получше, «Цена мгновения»? Пожалуй, скажут, что слишком громко, и не напечатают. А жаль, многих, я думаю, оно спасло, не упущенное счастливое мгновение. Ты слушаешь меня, лейтенант?
Старушка санитарка засуетилась.
— Уж полно вам, отдыхайте. И вовсе-то он не слушает вас, лейтенант все дремлет.
Рубен остановил ее:
— Перестаньте, мамаша. Мне это очень интересно.
Майор сосредоточенно смотрел в потолок:
— Ты должна понимать, старушка, что человек не может без забот. Казалось бы, какие у меня, смертника, заботы? Лежи и отмечай остаток жизни, раскладывай по полочкам, в чем прав или виноват. Однако ты да лейтенант наверняка последние и потому самые дорогие мои собеседники. Неделю назад я был полон сил, и разве думалось-гадалось, что так вот, с разлету, грохнусь, будто птица о провода? Человека, который уходит, всегда поучительно послушать, мать. Мне и самому интересно: словно бы кто-то другой рассказывает, а я лишь припоминаю да, так было.
Старушка горько вздохнула.
— Эт-та, миленький, не к добру. То слова не добьешься, то вон как пошел строчить.
Рубен приметил, как сдвинулись брови майора, и уже ждал резкого слова, но сосед вымолвил задумчиво, мягко:
— Славная ты, мамаша. Заботливая. Где-то и у меня есть мама. Ждет.
Он передвинул на подушке голову, стиснул и разжал пальцы.
— И неверно, будто я молчал. Я, понимаешь ли, факты взвешивал да раскладывал. Строго, по-прокурорски спрашивал: так ли прожита жизнь?
— И какой ответ? — спросил Рубен.
— Совесть-то, прокурор, отвечает: мало сделано, Петруничев, мало!
— Это и мне знакомо, — сказал Рубен. — Кончается день, оглянешься — мало сделано! Тут и досада тебя тревожит и сожаление; завтра, мол, обязательно нужно наверстать. А сделаешь завтра больше — снова такое же повторится: мало! Человеку, наверное, по самой его природе свойственно постоянное недовольство собой.
— Свойственно, только далеко не всем, — почему-то строго сказал майор. — Есть самодовольные. Есть лентяи. Список этот длинный: тупицы, тунеядцы, пижоны, мелкие хищники, распутники, растратчики жизни. Им твое и мое беспокойство не понять. Но должен тебе сказать, что, если я такого у себя в батальоне обнаруживал, и мытьем и катаньем плесень выводил.
— Помогало?
— Фронт сантиментов не любит. Мысленно сам на его место становлюсь и спрашиваю, как с себя спросил бы.
— Лишь бы справедливо, майор. К себе вы, пожалуй, придирчивы.
— И не «пожалуй», а точно. Уверен, что так и нужно. Если хочешь вести других - будь к самому себе строгим. Смелость? Она от этой строгости к себе
Придет, а солдаты поймут и оцёнят. Но те сожаления и заботы, о которых ты говорил, что прожитый день остается не заполненным до края, у меня лично в условиях фронта подвергались — как бы сказать? — трансформации. Тут сделать больше — значит учесть каждый шанс, даже самый последний и самый безнадежный. Может, непонятно? Сейчас поймешь. Ну, про бой в лесу, что под Косино, я тебе рассказывал. (Рубен этого не помнил, однако не решился его прерывать.) Пять раз высота Безымянная из рук в руки переходила. Мы подбили четыре танка и бронетранспортер. Три раза я в штыковую ребят подымал. Батальон дивизии «Мертвая голова» тут оправдал свое название: много у той высотки мертвыми фашистов полегло, и если бы не их авиация..!
Он горько скривил губы.
— Я говорю: «если бы»... Что ж, ночью нам все равно пришлось бы отойти: мы оказались в отрыве от фронта, а приказа на отход не получили. Связь была прервана, а связные, посланные к нам, не дошли. После контузии — знаешь, какая это чертовщина: фугаска, сто килограммов — я в штабе немецкого батальона очнулся. Ночь, лес, какой-то сарай лесничего, что ли? — а в сарае красивый столик привозной, и на столике плошки горят. Кто это меня поддерживает, думаю, обхватил за поясницу и держит? Вижу — рослый детина, сильный, в чине ротенфюрера — это по-эсэсовски, а по-общеармейски — обер-ефрейтор. Он переводчиком оказался. А за столом гауптштурмфюрер сидит — капитан. Всего их четверо, фашистов, тут было: два офицера, переводчик и телефонист. У входа дежурил автоматчик. Значит, пятый. Нас, пленных, трое: я и двое рядовых, оба из моего батальона, крепкие, бывалые ребята, помню их фамилии — Савкин и Чаус. Мне было ясно, что нас расстреляют. Допросят и расстреляют: немцы заметно горячились, им, видно, не терпелось поскорее добраться к Березине, к Борисову, а там на Оршу, на Смоленск, и что им было возиться с нами, с пленными, по лесам? К тому же это были эсэсовцы. Я успел шепнуть ребятам пару слов, и они поняли: тут следовало смотреть в оба и быть начеку, возможно, что какая-то минута еще могла стать нашей. Понимаешь, счастливое мгновение могло ещё сработать! Для нас...
Надо сказать, что и рыжий гауптман и его штабные дружки вели себя беспечно. К такой беспечности приводит сознание безнаказанности да громы побед. Если в руках у фашиста оружие и ему вольно миловать тебя или казнить, куража не оберешься. Но иногда фашист как будто забывает, что оружию безразлично, в кого стрелять. Так случилось и теперь. Две-три секунды решали нашу судьбу. Гауптман допрашивал меня первым и поминутно хватался за пистолет. Он был уверен, что именно этот его жест на меня и действует. Я называл вымышленные номера дивизий и полков. Переводчик повторял, а гауптман записывал. Будь он поумнее, он сразу понял бы, что я дурачу его, лишь бы как-то выиграть время: силы, названные мною, выглядели фантастично.
Майор замолчал и стал рассматривать свои большие рабочие руки, покрытые восковой желтизной. Рубен терпеливо ждал: тихонько вздыхала санитарка, что-то шепча, мягко лилась листва березы. Лицо раненого подергивалось и кривилось, он словно с усилием сдерживался, чтобы не заплакать. Но Рубен ошибся, майор чуть слышно смеялся. У этого человека была чистая совесть: он мог, исповедуясь, смеяться.
— Наконец-то гауптман что-то смекнул. Он посмотрел на столбик цифр, ругнулся по-русски и отшвырнул тетрадку.
«Сейчас мы будем тебя вешать. Тебя и этих двух солдат».
«Знаю, и другого не ожидал».
Эсэсовец закурил сигарету.
«Почему? Еще не поздно сказать правду».
«Положим, правду ты и сам знаешь».
Он насторожился.
«Какую?»
Я видел, что желанная секунда так и не мелькнула, а дальше тянуть комедию не стоило.
«Что вы будете разбиты и сгниете в нашей земле».
Теперь я ожидал выстрела, а в сознании, в далеком уголке его, вопреки всему таилась надежда, последняя капелька ее, что, может, в самый окончательный миг я еще что-то успею сделать. Таков человек: надежда живет в нем до самого последнего мига, и случается, впрочем, наверно, очень редко, что эта сумасшедшая надежда сбывается.
Но оказалось, что я недооценил гауптмана СС. Нет, он не взорвался, как надутый пузырь, не ударил кулаком по столу, не затопал ногами. Глаза его сразу стали тихими, лицо этаким кротким, он даже улыбнулся, ласковый и смущенный, каким временами может прикинуться садист.
«Вы интересный собеседник, майор, — сказал он мягко, прижимая пистолет ладонью к столу. — Неужели вы верите, фанатик, тому, что сказали?»
«Верю и знаю».
Он тянулся ко мне, рыжий, фальшивый, подобострастный.
«И точно знаете?»
«Как и то, что ваш фюрер — психопат, а его окружение — бандиты».
Он покачал головой и развел руками:
«Вы допустили ошибку, майор. Просто повиснуть в петле вам не удастся. У древних германцев был обычай вешать врагов на крюке — за подбородок или за ребро. Мы, воины СС, наследуем и этот рыцарский обычай. Вы долго, очень долго будете умирать, пока искупите вину за оскорбление фюрера».
Сигарета у него погасла, он взял со стола зажигалку и на секунду, лишь на секунду отнял от пистолета руку. Но это была моя секунда. Толком тут не расскажешь. И нет подробностей. Помню, как схватил пистолет. Обожгло изумление: у меня оружие! Выстрел, второй, третий. Что мешкать да целиться, если они, все четверо, передо мной? В углу сарая стояли автоматы, и наши ребята сграбастали их. Часовой был убит на дороге, и мы бросились в лес. На тропинке свалили еще двух фашистов. Нас, конечно, преследовали, пытались окружить. Стрельба поднялась, что на фронте. Один из наших ребят, рядовой Савкин, погиб, случайный стерва-автоматчик сразил, а мне и Феде Чаусу повезло. Мы уходили все дальше в лес и на рассвете встретили группу наших окруженцев. Их было сорок два человека, и мы решили пробираться к Березине, чтобы потом переправиться к своим. Но в частом подлеске на берегу нас взяли в «клещи». Тогда со мной это и случилось: осколок гранаты полоснул по спине. Кончилось. Я понял: все кончилось, все шансы вышли... Нет! Еще оставался шанс. Славные наши ребята не бросили меня, безнадежного, с покореженным позвоночником, доставили к реке, смастерили плот, переправили ночью на восточный берег и донесли до медсанбата.
Рубен с интересом смотрел на майора, и восковой профиль уже не казался ему холодным и строгим — за этим почти безжизненным обликом жила отважная душа.
— У вас, Петруничев, завидная судьба, — сказал Рубен. — Уйти от неминуемой гибели да еще разгромить штаб!..
Лицо Петруничева смягчилось, он мечтательно улыбнулся:
— Шанс... Понимаешь? Счастливое мгновение. Оно стало моим, сначала совсем безнадежное, но я подстерегал его, сграбастал и не упустил. Вот она, паренек, трансформация. Мне так захотелось тогда сделать больше, да, больше возможного, чтобы, умирая, не сожалеть.
Майор прикусил губу и просяще взглянул на санитарку: та поняла и поднесла ему стакан воды. Зубы его стучали по стеклянному ободку, и вода расплескивалась.
— До сих пор не могу сказать, сколько времени колдовал надо мной хирург в медсанбате. Как видно, очень долго, потому что положил меня на стол ранним утром, а когда я очнулся после наркоза — был вечер. И потом была бесконечная послеоперационная ночь. Однако я не знал, что день после той ночи будет еще труднее. Ты слушаешь меня?
Санитарка что-то зашептала.
— Ну как же! — откликнулся Рубен, и Петруничев продолжал, все так же раздельно выговаривая слова:
— Когда я проснулся и вспомнил все час за часом, от нашей последней штыковой атаки на высоте Безымянной до стычки в перелеске над обрывами Березины; вспомнил, как ударило меня в спину и сковало, сразу же понял, что дело мое — дрянь. До чего же обидно, паренек: под прямой наводкой остался без царапины и на крюке, которым гауптман стращал, не повис, а тут какой-то случайный осколок! Ну вот... Вскоре пришел доктор. Тот самый, что мой позвоночник перебирал. Все доктора утешители. По крайней мере, когда со смертниками говорят. И этот сказал, как любой сказал бы на его месте: «Вы, Петруничев, молодцом!» Но я заглянул ему в глаза — и понял: не случайно он от меня отвернулся.
«Спасибо вам, доктор, — ответил я ему. — Вы добрый человек. И не ваша вина, если не всегда удается вам неизбежное осилить».
А утром — вот неожиданность! — ко мне приехал сам командир дивизии. Он как раз в этом селе находился и, видимо, прослышал обо мне. Мы были знакомы. Незадолго до начала войны два раза я на боевых учениях от него благодарности получал. Вошел он в комнатушку крестьянской хаты, присел у окна, устало улыбнулся и сказал:
«Рядовой Чаус и вы, товарищ Петруничев, представлены к наградам. Третий, рядовой Савкин, посмертно. Мы перехватили донесение командира немецкого пехотного полка СС, там подробно расписано, какой тарарам вы в штабе их первого батальона учинили. Молодцом, Петруничев... молодцом!»
И опять это слово — «молодцом», но теперь звучало оно совсем по-другому, будто хотел он сказать: «Будешь жить!» И я поверил.
Майор замолчал, а старушка, вздыхая, вышла из палаты.
— Признаться, я знал нашего комдива, — задумчиво продолжал майор, как рьяного служаку, не лишенного приметных солдафонских черт. Иногда мне казалось, что весь его внутренний мир ограничен параграфами устава. Почему так думалось? Быть может, потому, что он с особой лихостью появлялся перед строем? Или потому, что, встретив небритого офицера, обязательно распекал его, нередко повторяясь, что, мол, невнимание к собственной внешности — признак слабой внутренней дисциплины? Я знал, что человек он бывалый и смелый: воевал на Хасане, на Халхин-Голе, финскую кампанию прошел и удостоился четырех боевых орденов, а все же эта придирка к нему в душе у меня сохранялась, и потому я ждал, что он скажет пару стандартных, «бодрых» словечек да похлопает меня по плечу. Но генерал вдруг спросил:
«Ты бывал в Донбассе?»
«Бывал».
«Знаешь такой городок — Дзержинск? Раньше он Щербиновкой назывался».
«Слышал».
Он потрогал у виска синий шрам.
«Вот она, Щербиновка. Я коногоном в этой шахте работал. Нынче эта профессия умерла, но было время, когда коногоны первыми шахтерами считались... Самыми отчаянными».
Я слушал, не понимая, к чему комдив это говорит, однако он словно позабыл обо мне и стал увлеченно рассказывать, как лихо водил по квершлагу, по штрекам партии вагонеток и что за чудо-конь был у него — Трепет.
Будто без связи с предыдущим он спросил:
«Веришь, что человек может выжить усилием воли? Врачи на него уже махнули рукой: мол, безнадежен. А душевная стойкость совершает чудо: человек живет!»
«Пожалуй, это редкость, — заметил я комдиву. — Конечно, и у врачей случаются счастливые ошибки. Но если говорить о моем положении, так тут счастливая ошибка исключена».
Казалось, он не расслышал моего замечания и продолжал увлеченно:
«Был у меня на Щербиновке дружок, тоже коногон, Митя Силушкин. Звали его шахтеры Силушкой, и эта кличка очень ему шла: подковы играючи ломал, железный прут в два пальца толщиной узлом завязывал. Но главное в нем было не это: главное — душевная сила. Он за слабых, за обиженных всегда вступался: за стариков, за инвалидов, за шахтерских вдов и, уж конечно, с шахтовладельцами был, что называется, на ножах. Даже полиция Силушку опасалась: лучше, мол, не затрагивать этого неистового правдолюбца. Но истинно высокую правду он понял в семнадцатом году, когда революция свершилась. На митингах Силушка такие жаркие речи держал, что шахтеры стаскивали его с трибуны и качали. В гражданскую Донбасс наш большие беды пережил: белогвардейщина особенно здесь лютовала. Как-то ночью деникинские контрразведчики и к Силушке явились, а только взять не смогли, четверых табуреткой он искалечил. Ну, казалось бы, теперь ему только скрыться, в подполье уйти — в любой шахтерской землянке его приютили бы и пригрели. Нет, Силушка был не таков, чтобы прятаться. Он ходил от землянки к землянке и одно повторял: «Что вы, шахтеры, приуныли? Нам ли, хозяевам земли, их страшиться? Это ведь паразиты, жиломоты, холуи капитала! Мы эту накипь сметем с лица земли! А чтобы они, захребетники, знали, что роковой час их пробил, пускай увидят, как высоко наше знамя поднялось...»
Почему он о знамени говорил, я толком тогда и не понял, но утром все мы увидели, как на самой верхушке трубы, а труба у нас была на шахте кирпичная, старой кладки, высоченная, и там, на самой верхотуре ее, на шпиле, красное полотнище развернулось. Надо сказать, что скобы на той трубе были ненадежны: некоторые даже повываливались, и подняться по скобам в такую высь — дело, конечно, нешуточное. Митя Силушка не сробел. И не только поднялся, долго еще стоял на кромке, укрепляя знамя и держась за шпиль.
В то утро из Никитовки к нам на поселок сотня белых карателей прибыла, как видно, по звонку из контрразведки. Что за личности — чубы, усищи, папахи, водочным перегаром за версту разит! Завидели они знамя и с воем, с гиком, с рычанием всем скопом к шахте ринулись, полосуя плетками каждого встречного шахтера. Пятилетнего мальчонку насмерть затоптали, ухари-смельчаки! А Силушку, едва он спустился на землю, на штыки подняли. Офицер тут же распорядился тело не убирать: пускай, мол, видит шахтерня чумазая, какой он, скорый и беспощадный, у беляков суд.
Многие шахтеры потом приходили на славного Силушку посмотреть. Я тоже пришел под вечер: лежал он на груде щебня с распахнутым воротом, со злой усмешкой на лице. А руки его — они были словно живые, как будто хотел он опереться о щебень локтями и встать. И удивительное чувство так неожиданно тогда во мне шевельнулось: я не поверил, что Силушка мертв. Сказать об этом людям? Примут за глупую шутку: ведь семь сквозных штыковых ранений — в легкие, в живот, в плечи. Не сказать? А вдруг мы решающую минуту упустим?
«Братцы, говорю, — товарищи, да ведь он еще теплый! Давайте унесем его и спрячем: быть может, это счастливая судьба?»
Тут какой-то вихрастый старичок появился, заплакал, запричитал:
«Истинно, — говорит, — братцы, чудо перед нами открылось: он будет жить!»
Мы осторожно перенесли Силушку сначала в кочегарку, а ночью переправили в дальнюю землянку и привели к нему нашего старенького врача.
По дружбе мне выпало дежурить у постели раненого в первую ночь. Сколько над его ранами врач потрудился! Промывал, штопал, бессильно опускал руки и снова резал и промывал. А перед утром Митенька открыл глаза. Он сразу же узнал меня и улыбнулся.
«Я не умру, Василий. Не тревожься. Я не имею права умереть. Сердце мое, Вася, нестерпимым огнем заполнено: гнев лютый, жгучий поднимет меня и в жизнь вернет».
Комдив предложил мне папироску, закурил и молвил спокойно:
«Знаю, что некоторые такому и не поверят: мол, басня! Пускай не верят. Но я встретил Силушку через два года, когда он командовал бронепоездом «Красный шахтер». А позже мне рассказывали, как героически сражался он на Перекопе, где и погиб на Турецком валу. Да, история, Петруничев, поучительная... Я верю: усилие воли способно творить чудеса».
Петруничев приподнял голову, внимательно взглянул на Рубена.
— Ты понимаешь, друг, как я ошибся в комдиве? И почему мне такое раньше думалось, будто он сухарь?
Нет, у моей койки сидел добрый, суровый товарищ и, зная, что мое дело безнадежно, бережно подставил мне плечо.
— Я это запомню, — сказал Рубен. — Гнев — исцелитель. Высокий пример. *
Петруничев улыбнулся, и восковой профиль его как будто просветлел.
— Я думаю, что подарить бы тебе на память? Право, нет у меня ничего. По возрасту я старше тебя и, значит, имею больший опыт жизни. Неверно, будто прожитые годы обременяют: они умудряют и закаляют, а закаленному легче и проще путь. Мне очень хочется, чтобы когда-то, при случае, ты припомнил нашу недолгую встречу, и как я хотел, чтобы ты, молоденький, долго еще, долго жил. А если ты вернешься на фронт, и наступит трудная минута, вспомни, дружок, «счастливое мгновение» — оно выручает иногда.
— Обязательно вспомню, — сказал Рубен.
Он лежал и думал о великом и неповторимом многообразии жизни, о встречах последнего времени, которые навсегда останутся в памяти, хотя и были коротки. Рядом умирал человек, нисколько не поглощенный крушением своей судьбы: у него были заботы выше личного.
И Рубену без слов, без объяснений открывалась высокая доброта этой отрешенности: слияние одной смертной жизни с бессмертием дела.
Тихо стучало сердце — откуда бы взяться в нем радости?
Тихо журчала березка, и густое закатное солнце текло по ее чеканной листве.
Майор Петруничев умер через несколько минут.
А Рубен забылся, утомленный бессонной половиной ночи. Память опять вела его знакомой гористой дорогой детства.
Когда он открыл глаза, кровати Петруничева в палате не было. Осторожно ступая на носки, уборщица выносила матрас.
ВСТРЕЧА В ГОСПИТАЛЕ
Клавич... Янка Клавич!.. Он вошел в палату на костылях и неловко заслонился рукой от света.
— Где моя койка? — спросил он, оборачиваясь в коридор и осторожно переставляя непривычные костыли. — И почему меня... в сомнительную палату?
Санитарка заспешила ему навстречу.
— Она уже не сомнительная, солдатик. А койку сейчас принесут.
— Ладно, устало сказал Янка. — Подождем.
И лишь теперь он взглянул на Рубена. Взглянул искоса, из-под бровей, и маленькое озабоченное лицо его смешно сморщилось, руки угловато вскинулись, костыли попадали на пол. Пошатываясь, он попытался сделать шаг вперед, но покачнулся еще сильнее. Подбежала санитарка и успела обхватить его за поясницу.
— Ну что испугался?.. Ну нельзя же так!
Санитарка старалась его удержать, но Клавич упрямо двигался в угол, где стояла койка, хватал руками воздух и неуклюже приседал на непослушных ногах, а когда добрался до койки, почти упал рядом с Рубеном. Обняв его за острые, худые плечи, Рубен только сейчас понял, что Янка плакал.
— Янка... Милый Клавич! Что это? Слабость? Вы были, Клавич, стойким.
Янка поднял голову, зажмурился, губы его кривились, он прошептал:
— Пускай будет правда... Пускай! Не обмануться бы... Ой, правда!
Он весь напрягся, будто подымая большую тяжесть, и открыл глаза.
— Живы!.. Боже мой. А мне говорили... Понимаете, меня уверили!.. Верно сказал мой учитель, Пятрусь Чипик, горе по соседству с радостью ходит. И как такое могло бы случиться, чтобы человек потерялся? Я и в эшелоне расспрашивал и тут, в госпитале. Ну, в эшелоне на меня ноль, внимания, мол, бредит. А сегодня главврач говорит:
«Не шумите, товарищ, этакий вы беспокойный. Не все у нас по фамилиям значатся. Другой после контузии нем и глух, и фамилии у такого не добьешься. Значит, все-таки есть надежда, и будем искать. — И тут же скомандовал сестре: — Дайте ему валерьянку!»
Клавич тихо улыбнулся и погладил руку Рубена.
— Наверно, и сейчас по спискам ищут. Теперь-то, пожалуй, найдут!
Рубен смотрел на побелевшее лицо Клавича, на его маленькие, сухие, нервные руки, слушал знакомый, с хрипотцой, голос и все еще не верил этой встрече, как будто она оставалась воспоминанием или мечтой.
— Вы не удивляйтесь, Клавич, моему спокойствию, — сказал он. — Я, видно, совсем одеревенел. Что Корочкин?
Янка поморщился, засмотрелся в окно.
— Убит.
— Комбат Сергейчук?
— Вчера новенького сюда к нам доставили. Однополчанин. Рассказывает, что комбат последним покинул правый берег и собственноручно взорвал мост. Теперь назначен командиром полка.
— Он заслуживает.
— Знаете, кем он был до войны? И не подумаешь! А новенький его знает, они из одного города, из Можайска. На скрипке играл в театре. Скрипка и война! А потом я подумал, что музыка — это не обязательно нежность. Музыка — это все, что человека заполняет: тревога, раздумье, ласка, гнев...
Нет, Янка нисколько не изменился: он постоянно размышлял о жизни и удивлялся ей.
— Вот Корочкин. Тоже был удивительный. Я примечал, что он часто пишет письма, присядет в траншее, задумается и что-то выводит в книжечке. Мне думалось, трудно ему, громадине, простое письмецо сочинить. Карандаш в его руке выглядел даже странно. А приятель Корочкина, тот, напарник доверенный, как-то меж делом шепнул мне: «Тихо, Вася песенку слагает, он ведь поэт!»
Клавич встряхнулся, сдвинул брови, сказал решительно:
— Когда вернусь домой, буду настаивать... все инстанции пройду, но добьюсь, чтобы именем солдата Корочкина школу нашу назвали. Человека отважней не видел я и не представлял. Да, это был солдат.
— Вы о себе расскажите, Янка, — попросил Рубен. — Вижу, сами передвигаетесь прекрасно. Надолго они, костыли?
Клавич смущенно улыбнулся.
— Была бы моя воля, я сейчас бы их в печку. Не могу припомнить, когда это случилось, что я вроде бы в мясорубку вскочил. Девять ранений, а хирург свое толкует: «Счастье! В тебя, — говорят, — вежливо стреляли — старались не задеть костей».
Он засмеялся, весело задрожали морщинки у глаз, но взгляд остановился, стал строгим.
— Я не должен смеяться. Здесь кто-то умер.
— Вам сказали?
— Я вижу, у стены стояла койка: ее убрали и еще не стерли пыль.
— Здесь был майор Петруничев. Мой друг.
Янка взял костыли, встал.
— Надеюсь, он не осудил бы меня за шум. Мы тоже заглядывали в могилу. Что ж, мертвым — покой, а живым — жизнь. Мы еще поживем, товарищ комроты, и повоюем.
— Вы были смелым в бою, я видел.
Янка стоял у койки, тяжело опираясь на костыли, и казался горбатым, но в поднятом неподвижном лице Рубен приметил новую черту — строгий холодок решимости.
— Я знаю. Знаю, что смелый. А раньше я этого не знал. Откровенно сказать, считал себя трусишкой. До той минуты, когда меня обожгло. Иначе и не назовешь такое, именно обожгло. Теперь мне понятно, что смелость без гнева — бахвальство. Но с правдой, с обидой, с гневом она и творит чудеса.
Он неловко попятился, придвинул стул, присел, выставив несуразно большие перебинтованные ноги.
— Вы не удивляйтесь этим размышлениям, командир: меня всегда интересовали человеческие чувства, их добрые и злые истоки, воспитание, развитие, подтекст и итог. Верю, человек по самой своей сути добр. Я добр — хорошо это знаю. И я убил человека. Вот вижу его и сейчас: рост средний, жесткие усы, глаза синеватые, усталые. Представляю, как он говорил, улыбался. Мы очутились лицом к лицу, и я заколол его штыком. И нет у меня ни угрызений, ни раскаяния. Почему? Не потому ли, что я солдат и пусть, дескать, тот, кто повыше, отвечает и за мои грехи и за благодеяния? Нет, пустое... Потом я снова был в бою, и снова это повторилось. Но первого я запомнил потому, что он находился очень близко. Значит, доброте дано себя оберегать и утверждать себя без пощады?
— Врага убивают, Янка, если он хочет убивать.
Янка часто моргал, жмурился от солнца, и худое лицо его, измученное бессонницей, казалось удивленным.
— Я учил детей. Может, они и не очень-то жаловали меня в благодарность. Но добрые чувства мои все
время росли, и я не знал, что во мне столько злости. Это суровая правда, что доброте дано себя оберегать...
Неделя в госпитале равна, пожалуй, году. С утра и до ночи одно и то же: стоны раненых, обходы врачей, консилиумы, операции, перевязки. Кто-то командует батареей, кто-то подымает в атаку. Умерших уносят деловитые санитары, а уборщицы сменяют постели и смывают пол.
В час, когда передается сводка, в этом огромном доме слышен только голос диктора: больше ни шороха — тишина. Диктор смолкает, а глубокая тишина тянется еще долго. «Наши войска оставили...» Потом несутся проклятия, подымаются буйные споры, госпиталь весь клокочет безысходной яростью и болью. Горька и обидна была первая пора войны.
Палата Рубена и Янки считается спокойной. Здесь уже никто не мешает им разговаривать. Частенько наведывается дежурная сестра Аня, стройная блондинка лет двадцати пяти, легкая в движениях, чуточку насмешливая. Рубена она называет Красавчиком, дает термометр и быстро переходит к койке Клавича, которого почему-то называет Колючкой. («Ух, Колючка, видно, вы очень строгий!») Но возле Янки она задерживается немножко дольше, чем нужно для дела, и, когда их взгляды встречаются, Клавич заметно робеет.
— Она к вам с интересом, Янка, — замечает Рубен. — Вы женаты?
Странный этот Клавич — он вдруг краснеет, как мальчишка.
— Нет. И не собираюсь.
— Почему?
— Внешность у меня невидная. Мал, неосанист — что за кавалер? Но истоки чувства неисповедимы. Славная Аня, верно. Мне кажется, ей жаль меня: мол, неосанист, покалечен... Истоки чувства! Давайте о другом. Я вам уже рассказывал о себе, помните, у моста, в траншее. А теперь выяснилось, что и себя-то я не знал и злости своей не чаял. У вас, конечно, много было друзей, Рубен? Было и есть, не сомневаюсь.
А случалось такое, чтобы вы ненавидели кого-нибудь так, будто горячий суховей в душе и это чувство не только личное, повыше?
— Да. Случалось.
— Санитарка говорит, с покойным майором вы беседовали целыми часами.
— Верно, Мне было интересно его слушать. Он был способен бороться до последнего биения сердца.
— А мне так и не довелось дослушать вас: началась танковая атака.
— Ну, Клавич, это не передний край. Времени здесь у нас достаточно. Можем беседовать сколько нам угодно. Вообще госпиталь — такой дом, где люди больше живут воспоминаниями, чем текущей минутой. Я раньше никогда не рассказывал о себе: это вы первый меня раскачали. А теперь мне и самому занятно вспоминать и, наверно, потому, что были мы с вами где-то за краешком жизни, но сейчас возвращаемся и снова свои дороги узнаем. Что ж, я готов рассказывать вам день за днем, а слушать готов неделями.
Клавич в раздумье листал потрепанную тетрадь.
— Это единственное, что у меня от школы сохранилось. На груди носил. Санитары, спасибо им, не выбросили. Тут у меня разные заметки о жизни. И о вас тут есть. Вот... «Далекая Бискайя, страна басков. Мой командир потомственный шахтер». Когда я записал, и сам не помню. Только та картина ясна: ливень, молния сплошняком, и как прямо на нас двинулись танки.
— А рассказывал я вам, Янка, о детстве. Что особенно памятно каждому из нас? Первые узнавания, радости, обиды. Не помню, на чем тогда остановился. Рассказывал о басках, о наших реках и горах?
— Нет, как мальчик стоял у тюрьмы. В дороге я записал и это.
Рубен удивленно взглянул на Янку.
— Зачем?
Хмуря брови, Клавич рассеянно листал тетрадь.
— Не подумайте, что причуда. Впрочем, и причуды бывают безвредные: один собирает марки, другой — трубки, третий — бабочек или жуков. Я собирал книги — все, что по истории попадались. Триста книг у меня набралось; школе их оставил, уходя на фронт. А в ту ночь, когда мы с вами под кромешным ливнем лежали, такая мысль у меня засветилась, что человек, если его прочесть, пожалуй, интереснее любой книги. Только мы проходим мимо, не замечаем, ну, может, удивимся иногда и опять мимо.
Янка поднял глаза и посмотрел в окно; он казался смущенным.
— Мне скоро в школу возвращаться. С такими ногами передовой, пожалуй, не видать. Вот я и задумался: как передать детворе пережитое? Как передать ей отвагу Корочкина, жертву Лошакова, нежность старого санитара, вашу ярость, Рубен? Я привык вести конспекты. Прочту книгу, и обязательно — конспект. А теперь я задумал Конспект Жизни. В этой тетради он не вместится — возьму вторую, третью... Тут многое, может, отсеется, а другое разрастется, но если что и останется от меня — это Конспект Жизни.
Рубен с сожалением покачал головой:
— Утеряете вы свой конспект, Клавич. Мало ли еще дорог?
Янка сказал твердо:
— Никогда не утеряю. В крайнем случае... в самом крайнем — в надежные руки передам. Учите меня, Рубен, языку басков. Что даром время терять? Рассказывайте о вашей стране, суровой и чудесной. Ну, виноват, извините за любопытство, а только нету вины. Мы подробную карту Испании достанем, и я всеми вашими тропинками пройду. Помните, что человек еще и тем хорош, что всегда хочет знать больше.
— Верно, — согласился Рубен, — что даром время терять? Мне нравится ваша жадность к жизни, Янка. Я буду учить вас Испании. Вы меня — России. И только на пережитом. Я не историк, не географ, не экономист: что знаю — знаю, что помню — помню. А знаю я и помню нашу простую рабочую семью и условия ее жизни. — Он усмехнулся: — Никогда не думал, что доведется конспект пережитого составлять! Если это для вашей детворы, Янка, — следует. Что ж, мой друг, вернемся в Соморростро?..
II
ИЗ ТЕТРАДИ ЯНКИ КЛАВИЧА
МАТЬ, АМБРОСИО И ДРУГИЕ
Примечаю, что мой комроты, а ныне большой друг Рубен — натуры открытой и всегда увлеченной. Все же мне было нелегко его «раскачать». (Так он выразился, вспомнив о нашем разговоре ночью, в ливень, перед танковой атакой противника.) Сейчас он вспоминает вслух. Я почти не задаю вопросов. Как быстро строчит мой карандаш! Иногда это лишь знаки или обрывки слов. Ничего, разберемся, расшифруем. Рубен был прав, заметив, что недавнее сражение на Березине теперь уже кажется далеким, а родной городок его, Соморростро, где-то очень близко, словно за этой серебряной березкой просвечивают белые каменные дома.
— Почему-то и у меня такое же ощущение. Не потому ли, что после ранений нервы особенно обострены и картины отчетливо, зримо сменяют одна другую?
...Итак, Соморростро. Безлюдны улицы. Ветер временами скатывается со скалистых обрывов Серантеса и доносит резкий запах моря... Оттуда, с ребристого гребня Серантеса, отделяющего шахты от моря подоблачной стеной, домики селений кажутся игрушками, рассыпанными меж холмов, дороги похожи на ручьи, виноградники — на озера.
По ручьям-дорогам всегда и непрерывно плыли плотики машин, караваны повозок, двигались люди, маленькие, черные, словно не настоящие. Это шли шахтерские смены, и перед ними неуловимо отступала и постоянно меняла облик могучая железная «Гора».
А сегодня на дорогах, ведущих к шахтам «Посе», «Конча-3», «Конча-8», даже на широкой и ровной Сан-Бенито ни души. Между прозрачными башнями канатки замерли вагонетки. Не дымят паровозы на рыжих насыпях, под обрывами, у штолен, где, сколько помнит себя Рубен, днем и ночью, в холод, в ливень, в зной люди сверлили, рыли, рвали динамитом камень, и все это делалось в спешке, в напряжении отсчитанного времени им были дороги каждый день и час.
Так много солнца! В небе и над вершинами гор ни облачка, ни клочка тумана, а воздух разрежен и напряжен, и Рубен чувствует признаки близкой грозы и понимает, что она уже здесь, над притихшими улицами города, гроза, — ее не заметишь, но она уже бушует. У нее звучное имя — забастовка. Оно почти такое же лютое, как война. Только война — это когда сражаются солдаты. А забастовка — это когда солдаты и наемники-гвардейцы идут против шахтеров. Любой мальчишка в Бискайе знает, что такое забастовка. Снова войска окружат весь город, будут обыскивать дома, бараки, шахты, гнать шумные толпы арестованных, будут протяжно выть гудки и греметь выстрелы.
Рубен смотрит с крыльца на притихший город. Прошлой ночью к родным приходили шесть человек. Все — шахтеры с «Горы», сильные, хмурые, задумчивые. Самый старший из них — коренастый седой Альваро — подозвал Рубена и стал гладить его по голове. Рука у него была жесткая и тяжелая, а от робы пахло сырой землей. Он мягко удерживал Рубена и говорил матери:
— Я знал твоего отца, Долорес, подрывника Антонио. Во время Большой забастовки, которую помнит вся Бискайя, мы были все время вместе — и когда гнали приезжих штрейкбрехеров и когда подрывали скалы, чтобы рассеять гвардейцев. У него было восемь детей, он очень любил их и потому дрался отважно. Жандармы открыли по нас огонь. Они были уверены, что достаточно двух-трех залпов и забастовка прекратится. Но они забыли, что перед ними баски. Не просто шахтеры, а баски, да еще гневные и организованные. Тогда хозяева увидели, как горят их дома, как магазины вытряхивают товары на тротуар, как рушатся штольни, срываются с тросов вагонетки, летят под откос паровозы, загораются опоры подвесных дорог. Пусть попробуют стрелять в шахтеров. Пусть попробуют...
Он наклонился к Рубену:
— Правда, малыш?
— Правда, —сказал Рубен.
Альваро склонился еще ниже:
— Ну, а если тебя схватят гвардейцы и спросят, кто так говорил? Ты скажешь — дедушка Альваро?
— Нет, — ответил Рубен. — Яничего не скажу.
Шахтеры переглянулись, и Альваро спросил:
— А если они поставят тебя к стенке и гвардейцы поднимут винтовки...
— Я и тогда ничего не скажу им, — повторил Рубен.
Альваро засмеялся, и все другие стали веселыми и разговорчивыми.
— Верю, не скажет, — подтвердил Альваро. — И не потому верю, что он твой сын, Долорес. Наши дети знают, как достается отцам корка хлеба, — они дети шахтеров.
Ни в словах, ни в голосе Альваро не было ни похвалы, ни ласки, но Рубен так стоял бы и стоял, опираясь о его колено, и держал бы на плече его большую, жесткую руку, пахнущую сырой землей.
В дверь постучали: резко — три раза и потом слабее — два. Мать сняла железный крюк и впустила еще одного гостя.
Рубен видел его впервые: шестерых он знал, вместе с отцом они работали на «Горе», а этот был молод, строен, прилично одет, и лицо у него было светлое, а воротничок сорочки белоснежный.
— Студент? — удивилась мать. — Я была уверена, что вы в Бильбао.
Он молча пожал всем руки, взял кружку, отхлебнул воды, присел к столу.
— Я рад, что застал вас. Плохие новости. Вечером в Бильбао, в парке, убит наш товарищ Хосе Гальо.
В комнате стало очень тихо. Никто не двинулся с места, но Рубену почудилось — неуловимым движением все подались вперед, к Студенту, и замерли в ожидании. А он ничего не стал объяснять, снова зачерпнул воды и жадно выпил полную кружку.
Первая заговорила мать:
— Я видела Хосе Луиса Гальо четвертого дня. Он предостерег меня: «Смотри, Долорес, будь осторожна — провокаторы цепляются за малейший предлог, чтобы снова начать травлю - коммунистов». Не понимаю, как могло случиться, что такой осмотрительный Хосе Гальо сам стал жертвой провокаторов?
Молодой шахтер, рослый и кудрявый Педро, молвил задумчиво:
— Я вижу Хосе и сейчас. Вот он, передо мной, спокойный и внимательный. У него ямочки на щеках, и меж бровями строгая морщинка. Послушай, Студент, ты не ошибся? Может, убит не Гальо, а кто-то другой?
Белое пламя в карбидной лампе, стоявшей на столе, то вспыхивало, то садилось. Студент протянул руку и слегка выровнял пламя.
— Нет, я не ошибся, — сказал он. — Конечно, ты хотел бы, чтобы я ошибся.
— Но как же это случилось? — спросил Альваро. — Ты сам понимаешь: теперь полиция станет обвинять нас, коммунистов, хотя мы всячески избегаем стычек с провокаторами. А главное — это произошло теперь, когда в Бискайе вот-вот грянет всеобщая забастовка. Партия поставлена в очень затруднительное положение; у властей есть повод всех нас арестовать по «делу Гальо» и тем самым обезглавить забастовку.
Студент невесело усмехнулся, торопливо достал сигареты, закурил.
— Ты спрашиваешь, Альваро, так, будто я в чем-то виноват. В тот вечер я даже не был в Бильбао. Товарищи рассказывают, что в парке, где было устроено народное гулянье, дружинники-социалисты все время придирались к нашим ребятам. Именно Хосе Гальо пытался предотвратить стычку; его ударили, но он стерпел. Он сказал дружинникам, что это будет лишь на руку полиции, если рабочие парни, социалисты и коммунисты, перессорятся. Выдержка у Хосе была железной: дружинник, который его ударил, даже извинился. Но тут появился Хесус Эрнандес...
— Ах, вот оно что! — гневно воскликнула мать.
Альваро досадливо поморщился:
— Опять этот Эрнандес...
— Собственно, Эрнандес появился не в ту минуту, когда был улажен спор, а несколько позже. Он узнал о выходке дружинников и стал громко возмущаться. Гальо он назвал трусом и заявил, что, если бы какая-нибудь дрянь из дружинников осмелилась задеть его, Хесуса, он проучил бы их... Тогда и началось. Впрочем, Эрнандес остался невредимым, он улизнул из парка, а Гальо был убит.
— Провокация, — громко сказал Педро. — Самая настоящая провокация, за спинами дружинников — полиция.
Мать порывисто встала из-за стола.
— Поведение Эрнандеса — подлость, — сказала мать, и Рубен заметил, как тень прошла по ее лицу.
— Что ты предлагаешь? — настороженно спросил Альваро,
Из темного угла комнаты послышался детский голос. Это проснулась сестренка Рубена — Амая. Она присела в кроватке и, удивленно глядя на гостей большими ясными глазами, попросила пить. Мать словно не расслышала ее голоса, Рубен взял кружку, набрал воды и поднес сестренке. Потом он поправил подушку и поплотнее укрыл Амаю одеялом.
Разговор взрослых впервые и неожиданно увлек Рубена той недосказанной значительностью событий, которая угадывалась в каждой интонации. Шахтеры и раньше собирались в этой комнате, пили кофе и вели беседы. Рубену эти беседы казались скучными, в них постоянно мелькали слова: «зарплата», «капитал», «стоимость», «единство». Ему иногда казалось странным, что из-за этих слов люди, дружные между собой, готовы были перессориться. А сейчас речь шла об убийстве их товарища, и даже те «скучные слова» приобретали новый огромный смысл: будто стекло карбидной лампы, сиявшее над столом, они были наполнены изнутри светом.
Он вернулся к Альваро и облокотился о его колено, а старик словно не заметил Рубена и продолжал строго смотреть на мать.
Она зачем-то ближе придвинула к себе лампу.
— Что я предлагаю? Это понятно. Эрнандес возглавляет наш Союз молодежи. Он хороший оратор и мог бы принести партии пользу, если бы не его авантюризм. Его крикливость и самомнение, пристрастие к громкой фразе и хвастовство причиняют вред партии. Эрнандеса нужно сместить.
Шахтеры повскакали с мест и заговорили одновременно, а мать терпеливо ждала тишины и, когда гости снова уселись, спросила негромко:
— Студент, вы все рассказали?
Юноша казался очень усталым.
— Кроме Гальо, — сказал он, — в этой стычке были убиты два дружинника. Несколько наших товарищей ранены. Все это произошло после того, когда был убит Хосе, Нашим ребятам удалось уйти из города. Где они скрываются — не знаю. Полиция рыщет по всем дорогам. Я бежал сюда, чтобы эта новость не застигла вас врасплох.
Мать грустно усмехнулась.
— Полиция довольна тем, что произошло. Довольны и провокаторы, затесавшиеся в партию социалистов. Для них это радость — братоубийство в среде рабочих. Спасибо вам, Студент, за сообщение. А вам, Альваро, нужно сегодня же уйти в подполье.
Альваро тихонько отстранил Рубена, встал.
Я согласен с тобой, Долорес. Эрнандеса следует сместить. Сейчас я понял, что это необходимо, Понятно, откуда у Хесуса эти штучки: крикливость, заносчивость, авантюризм — ведь в прошлом он троцкист.
— Только ли в прошлом? — громко спросил Педро.
— Правильно, — согласилась мать. — Не только в прошлом.
Она хотела еще что-то сказать и по привычке вскинула руку, но так и замерла с поднятой рукой: в дверь резко постучали,
— Полиция... — Шепнул кто-то из шахтеров.
Мать указала на дверь черного хода:
— Выйдете через двор прямо к террикону. Осторожно, лестница скрипит.
Стук повторился еще настойчивей и громче.
— Прощай. Держись спокойно, — чуть слышно прошептал Альваро.
— Не беспокойся, — сказала мать.
Он вышел на лестницу последним, и мать завесила мешковиной проем двери. Рубен быстро убрал со стола окурки, бросил их в печь. Снял куртку и присел у кроватки Амаи, напряженно следя; за каждым шагом матери, удивляясь ее спокойствию. Она неторопливо приблизилась к двери, спросила сонно:
— Кто?
Голос из-за двери отозвался тихо и нетерпеливо:
— Свои... Амбросио Аррарас.
Мать отбросила крючок, у порога стояли трое: коренастый крепыш Амбросио Аррарас и двое молодых людей — оба смуглые, черноглазые.
Амбросио неловко шагнул через порог, пошатнулся и схватился за косяк двери. Парни, поддерживая его под локти, провели на середину комнаты, усадили на стул, потом один из них быстро вернулся и прикрыл дверь.
— Ты извини, Долорес, что мы к тебе... — медленно, с усилием выговорил Амбросио, кривясь от боли и вытирая рукавом мокрый лоб. — Где же еще спрятаться, если не у тебя? Спасибо Энрике, он знает все тропы в горах и привел нас сюда из Бильбао самым прямым путем.
Энрике кивнул на товарища:
— Вернее, спасибо Хилю: сам я с тобой не смог бы справиться, у меня пробито бедро...
— Здесь был Студент, я уже все знаю. Ты ранен, Амбросио? — спросила мать. — Ты очень бледен...
Аррарас попытался шутить:
— Еще бы! Я прошел все расстояние с грузом. У меня пуля в животе... Впрочем, и они тоже ранены. Хиль — в руку, Энрике — в бедро. Им ты, пожалуй, поможешь, а мне...
— Тебе нужно лечь, — сказала мать и принялась готовить постель. — Мы позовем доктора.
Амбросио порывисто привстал и схватился руками за живот.
— Нет! Доктора звать опасно.
— У нас есть свой доктор, — сказала мать. — Человек он надежный, но только за ним придется идти в соседнее селение. Ложись, Амбросио, тебе нужен покой.
Энрике и Хиль помогли Аррарасу раздеться и уложили его в постель. Амбросио с трудом сдерживался, чтобы не застонать: худое лицо его с резко проступившими скулами и сухими, словно обожженными, губами покрылось испариной.
Мать кивнула Рубену и подала полотенце; он присел на краешек кровати и вытер Амбросио лицо.
— Спасибо, — сказал шахтер. — Ты славный парень. Очень жалею, мальчик, что так случилось. Мы должны были уклониться от стычки. Но этот Эрнандес...
Мать поднялась на чердак и возвратилась с пучком сухой целебной травы. У басков такая трава нашлась бы в каждом доме, ей доверяли, пожалуй, больше, чем докторам. Хиль сбросил куртку, распорол ножом мокрый рукав, и Рубен увидел широкую алую ленту на его руке от крепкого бицепса до запястья. Лента была шелковая, с дымчатым отливом — Рубен не сразу понял, что это кровь.
Мать осторожно смыла водой кровь, приложила к ране распаренную траву, ловко затянула повязку.
— Ты смелая, мама, — сказал Рубен.
Она улыбнулась.
— Пословица говорит: отвага — половина спасенья.
— А все же страшно — кровь.
— Борьба, сынок, не обходится без крови.
— Нет, я не смог бы...
— Еще как сможешь, Рубен! — ответила мать. — Нужно приказать самому себе — и сможешь.
Раненые вели себя тихо, покорно, смущенно: они понимали свою вину, а мать ни разу Не обронила упрека. Уложив раненых спать, она ушла за врачом, а Рубен, убавив в лампе огонь, сидел за столом до утра,— слушая, как бредит Амбросио.
Бесконечно тянулась эта ночь, заполненная то сполохами далекой грозы, то тихим плачем ветра под крышей, то смутными раскатами грома, то напряженной тишиной.
Рубен смотрел в окошко на густые, спутанные волокна тучи и думал о событиях этой ночи, о матери, и ее товарищах, и о их врагах. Как все же сложно ткала свою пряжу жизнь! Приютив раненых коммунистов, мать подвергала опасности себя: если бы жандармы дознались об этом — ей не избежать тюрьмы. Но отказать Аррарасу в убежище — значило погубить его: без медицинской помощи и ухода Амбросио был бы обречен. Значит, идя на выручку раненым, мать словно бы становилась участницей той кровавой схватки в Бильбао? Нет, она презирала хвастуна Эрнандеса, виновника схватки. И Хиль, и Энрике, и Амбросио понимали ее молчание: она осуждала их. Но как же они могли постучаться к ней и подвергать ее опасности, если заранее знали, что она их осудит? Быть может, они понял и свою ошибку и не столько опасность, сколько раскаяние привело их сюда? Пожалуй, для раскаяния было мало времени. В этих делах у Рубена имелся опыт: когда шахтерские ребята из Кончи затевали войну против мальчишек из Гальярты а такое случалось чуть ли не каждый день,— раскаяние не приходило в горячке битвы, оно появлялось с подсчетом синяков. Неужели и взрослые, думал он, были как мальчишки и спохватились лишь после ранений? Тут возникали все новые вопросы, и Рубен окончательно запутался в них.
«Ясно, — говорил он себе, — Эрнандес мог спрятать раненых товарищей где-нибудь в Бильбао. Почему же он не сделал этого? Возможно, они не пожелали оставаться с ним? Добраться до Соморростро им было не просто» и все же они добрались и разыскали мать.
Значит, они верили ей больше, чем Эрнандесу? Рубен облегченно вздохнул: он был уверен, что решил загадку.
Эти трое поняли, что заблудились, что Хесус повел их не той тропой, а заблудившись, решили вернуться к матери: пусть будет стыдно и тяжело, однако они поступали честно.
Впервые в жизни он так настойчиво доискивался тех скрытых рычагов, которые управляли людьми и определяли их поступки, и ему представлялось очень важным найти правильный ответ.
Туча окончательно поглотила дом, захлестнула двор, срезала первый этаж, а этот, второй, с маленьким деревянным балконом и узкими бойницами окон, был похож на старую надстройку рыбацкой шхуны, каких немало бродит в свинцовых просторах Бискайи. Время шло, а мать не возвращалась, и Рубен испытывал острое чувство одиночества, хотя, кроме его и Амаи, в квартире находились еще трое.
Вспышка молнии зародилась у самого окна: быстрая искра скользнула за стёклами, взлетела, затрепетала, из нее возникла крутой скрученная голубая спираль — она взвилась вверх наподобие ракеты, и в стекла плеснул яркий и зыбкий свет. В комнату ворвался ветер, он сдул со стола газету, заиграл бумажками, на полу, рванул занавески, хлопнул дверью. Рубен встал, чтобы прикрыть дверь, и увидел на пороге мать. Она стояла в проеме двери сильная, красивая, молодая, и отблеск молнии сиял на ее лице.
— Дождался? — спросила она и улыбнулась.
— Ты знала, что я не сплю?
— Знала...
Рубену как будто легче стало дышать от ее голоса и улыбки,
— А здорово это получилось, мама! Сначала молния все осветила, и тут же ты вошла. Амбросио бредит. Что, если не выживет? Куда мы денемся с ним?
Она прошла через комнату, коснулась рукой плеча Рубена, остановилась перед кроватью, на которой притих Амбросио,
— Спит... Бедняжка, он так измучился. Наша семья увеличилась, Рубен. Энрике и Хиль уйдут, но Амбросио останется. Ты так и думай теперь, мой мальчик, что Амбросио твой дядя»
Вскоре пришел доктор, сухощавый, подвижной старичок в черном плаще, черной шляпе, с черным зонтиком и черным саквояжем. Глаза у доктора тоже были черные, внимательные и чуточку насмешливые» Сбросив плащ и осторожно сняв шляпу, он осмотрелся по сторонам.
— Дворец!.. Иду на пари, Долорес, что это жилище построено еще во времена мавров. Не было города Соморростро, не было шахт и заводов, а этот дом был.
— Значит, была и нужда, — сказала мать. — Как видно, бедность древнее этого дома.
Доктор быстро сменил повязки Энрике и Хилю, а с Амбросио провозился все утро, покрикивая то на мать, то на двух молчаливых шахтеров, которые с готовностью помогали ему. С Аррарасом доктор разговаривал, не скрывая неприязни.
— Ну, где это видано, чтобы такой солидный человек и вдруг ввязался в мальчишескую драку?
— Я защищал товарища, — слабо оправдывался Амбросио, губы его дрожали и руки не находили покоя. — Что ж, если так случилось. Ведь они убили Гальо.
— Ты защищал товарища! А не проще было вместе с товарищем уйти? Теперь в опасности эта семья, и ты, наверное, умрешь.
— Мне так хочется жить, Хулиан. Сделай, чтобы я не умер.
— Да, чтобы ты выжил и снова наделал безобразий? А слышал ты такое слово — перитонит? Это воспаление брюшины, и я против него бессилен. Еще хорошо, что ты умеешь терпеть, Амбросио, иначе я швырнул бы инструменты и ушел домой.
— Я буду терпеть, Хулиан, если ты даже изрежешь меня на части.
Угловатый и нескладный, резко исхудавший за одну ночь, Амбросио лежал на столе, занимая почти всю комнату, а доктор сосредоточенно копался в глубоком разрезе раны и отрывисто бросал злые слова:
Сейчас я тебя залатаю, как старый сапог, но если ты выздоровеешь, запомни, товарищи с тебя спросят...
— Я буду дисциплинированным, Хулиан.
— Еще бы! Ты станешь паинькой…
— Нет, но я выполню любое задание партии.
— Значит, ты понял, почему я стараюсь. Не думай, что это большое удовольствие — перещупывать твои кишки.
— Партия не покинула меня в такие минуты. Я хочу жить для нее, Хулиан.
— Ладно, помолчи, герой. Сейчас я сделаю тебе на память подарок. — Доктор приблизил руку к лицу Амбросио. — Вот смотри... пуля. Она, в полном смысле, — твоя. Но главное — мы остановили смерть.
На красной от крови ладони врача лежал маленький черный предмет. Он перекатывался, похожий на фасоль, словно живой, а доктор следил за ним и улыбался.
Впервые он улыбнулся после того, как вошел в дом...
Амбросио перенесли на кровать, и доктор долго, старательно мыл руки. Рубен подавал ему горячую воду и все смотрел на тонкие, нервные пальцы этого необычайного человека, сумевшего остановить смерть. Собираясь уходить, доктор неторопливо вытащил из кармана потертый кошелек. Он стал осторожно пересчитывать какие-то бумажки, не доставая их из кошелька и поглядывая из-под бровей на Аррараса. Кошелек он оставил на столе, взял из рук матери плащ, шляпу.
— Ты должна поддерживать раненого, Долорес. Деньги возьмешь в кошельке; я думаю, на неделю достаточно.
Доктор поклонился и пожал ей руку, Рубена погладил по голове, а тем двоим лишь кивнул и зашагал к выходу.
— Спасибо, Хулиан, — молвила с порога мать.
— Мы люди одной судьбы, Долорес...
— Да, и одной семьи, — сказала она.
Дверь за доктором закрылась, и мать неслышно вернулась к столу. Энрике и Хиль вышли из своего темного угла и остановились перед ней. Теперь они показались Рубену неловкими и совсем растерянными.
— Послушай, Долорес, он оставил деньги? — негромко изумленно спросил Хиль.
Мать взяла кошелек, раскрыла.
— Да, здесь порядочно денег.
Хиль торопливо вытер вспотевшее лицо, щеки его, губы, брови вздрагивали, как при лихорадке.
— Он так ругал Амбросио... и оставил для него деньги?
— Неужели ты ничего не понял? — удивилась мать. — Он отвлекал Амбросио от боли.
Хиль скомкал свой берет, который все время держал в руке, и швырнул на пол, глаза его блестели.
— Доктор... и наш! Я убеждаюсь, с каждым днем убеждаюсь все больше, что с нами идут все умные люди...
— Умные и честные, — сказала мать.
...Вы хотите знать, что мы делали с Амбросио целыми неделями, когда мать должна была уезжать? Нам было трудно: он часто терял сознание и дважды срывал бинты. Я еще не видел, чтобы человека так страшно трепала лихорадка. Три раза приходил доктор: он был печален и молчалив. В первый свой визит он сказал, что у раненого начался кризис и Амбросио, наверное, умрет.
Эта ночь была бесконечной, и я не уснул ни на минуту. Амбросио еле слышно просил:
— Удержи меня. Не отдай...
— Вы так боитесь смерти, Аррарас?
— Просто я многого еще не сделал.
— А ведь если человек умирает, ему все равно...
— Нет, человек совсем не умирает. Он никогда не умирает совсем. Живет его дело, значит живет и он. Ты понимаешь, как важно оставить память...
Я думаю, он выжил потому, что всеми силами души стремился выжить. Когда доктор пришел в третий раз, я по лицу, по каждой морщинке на его переносице понял, что опасность миновала. Он похвалил Амбросио, почему-то похвалил и меня, назвав отличной сиделкой, а мне была обидна эта похвала — ведь сиделками служат старые женщины.
Почти все время я присматривал за Амбросио один. Сестренка Амая была совсем маленькой. Умница, она при соседях ни разу не проговорилась, что у нас живет посторонний человек. Отец уже давно отбывал наказание в тюрьме, его схватили с пачкой коммунистических листовок. Мать дни и ночи проводила на шахтах, ей постоянно грозила опасность. Как-то я случайно услышал: она сказала Амбросио, что провокаторы охотятся и за ней.
Все это происходило в 1931 году, когда в Испании была свергнута монархия, но у власти стали буржуазные правители, которые сразу же двинули гвардейцев против рабочих демонстраций. 1 Мая в Бильбао после митинга в театре Елисейских полей, когда рабочие вышли на улицу, их атаковали конные гвардейцы. Было много раненных саблями, затоптанных лошадьми. И все же гвардейцы отступили, они позорно бежали от града камней.
Я не был тогда в Бильбао, но соседи рассказывали, что моя мама подняла с земли разорванное красное знамя, и за ней пошли сотни людей.
Люди, которые видели мою маму только на трибуне, могли подумать, что она выкована из железа. А мы, ее дети, знали, какая она добрая и ласковая, отзывчивая к чужой беде, и нам не нужно было объяснять, почему она выбрала такую трудную жизнь — она выбрала ее от доброты к людям.
Когда Амбросио стал выздоравливать, оп спросил у меня, есть ли в нашей квартире книги. Их у нас было много: мама брала книги в библиотеке рабочего Центра и читала ночи напролет. Я взял из шкафа книгу, а с нею прихватил и какую-то тетрадь, раскрыл и узнал знакомый, округлый почерк мамы.
— Что это? — спросил Амбросио. — Ну-ка прочитай вслух...
Я прочитал две строчки, и они запомнились мне на всю жизнь. «Да, трудно определить, сколько горя может вместить сердце матери, трудно измерить силу и стойкость материнского сердца!»
— Больше не нужно читать, — строго сказал Амбросио. — Мы не имеем права: она писала для себя.
— Здесь, на странице, Амбросио, немного расплылись чернила, будто упала капля дождя.
Ты думаешь, она могла заплакать?
— Я слышал, как иногда она плачет по ночам.
Амбросио привстал на локтях, закашлялся, скрипнул зубами. Глаза его похолодели.
— Они ответят... Мой мальчик, они ответят за каждую ее слезу. Предатели! Они называют себя республиканцами и социалистами, но это не мешает им преследовать и убивать рабочих, ползать на коленях перед богачами, лизать подошвы даже такому самодуру, как граф Сабардьель! Ты слышал об этом мерзавце? Он установил на своих землях закон, по которому перед ним, перед членами его семьи, перед их знакомыми крестьяне обязаны становиться на колени. Этого сумасброда следует посадить в дом для умалишенных, а господа социалисты из кожи лезут, чтобы заслужить его похвалу.
— Я слышал о графе Сабардьеле. А шахтеры говорят, что наши хозяева еще хуже.
Амбросио задумался.
— Будем надеяться, мальчик, что к тому времени, когда ты станешь взрослым, родина раздавит эту саранчу. В Алане, в Бискайе, в Гипускоа много отважных людей. Они пойдут с твоей матерью, с Альваро, с нашими товарищами. У них нет другого выбора: свобода или рабство, победа или смерть. Сила наша, коммунистов, в том, что мы знаем путь к победе.
Амбросио всегда говорил со мной как со взрослым и равным, внимательно выслушивал, рассказывал о себе, мы стали друзьями, несмотря на разницу в летах. Иногда ночью к нам тайком от соседей пробирался весельчак Перикачо, он работал на металлургическом заводе, но был уволен за выступление на митинге. Высокий, сильный, Перикачо постоянно улыбался и острил. Он находил смешное даже в печальном, весело рассказывал о своих скитаниях в поисках работы, о том, как его преследовала полиция, а он запутывал следы и, к ужасу жандармов, подсовывал в их квартиры листовки.
— Вы представляете, какой переполох — листовка на дверях квартиры начальника полиции! А клейстер такой, что прихватывает намертво: ни ножом соскрести, ни зубами выгрызть. Ну, смеху, было, когда сам начальник поливал двери квартиры из чайника кипятком и даже приплясывал от ярости!
Амбросио завидовал приятелю:
— Ты действуешь, а я лежу здесь как бревно. Перикачо улыбался.
— Твое от тебя не уйдет — у начальника полиции огромный чайник...
— Мне думается, твой риск не всегда оправдан, Перикачо.
— Я доказываю, что нам на все их угрозы начхать.
— А если начальник тебя поймает?
— Я скажу ему, что близко время, когда я примусь его ловить.
И все же тебе нужно поменьше рисковать. Перикачо смеялся.
— Кто это говорит? Амбросио, по кличке Храбрец? Уверен, что, если бы не рана и не парочка провокаторов, которых ты ловко уложил в Бильбао, ты пошел бы со мной.
— Я сожалею о своем поступке.
— Они сожалеют, что им не удалось убить тебя. Амбросио хмурился и тяжело вздыхал:
— Я навлек беду на партию. Полиции нужен был повод для арестов. Тут личную обиду надо отбросить.
Перикачо засмотрелся в окно.
— А как ты понимаешь борьбу, в чем она должна выражаться?
— Конечно, в завоевании масс, в повседневной черновой работе.
— Если меня убьют, — сказал Перикачо, — я до последней секунды буду помнить, что оставляю вместо себя самое меньшее пятьдесят коммунистов. — Он опять засмеялся. —Стоило жить!
Так я и запомнил Перикачо: с беспечной белозубой улыбкой, с пристальным взглядом из-под бровей, с высоко поднятой красивой головой.
А чуть свет к нам осторожно постучался Педро Алдама — он и раньше приносил продукты и газеты, шутливо называл нас «святыми затворниками» и торопливо рассказывал новости. Теперь он был серьезен и строг, не поздоровался, плотно прикрыл за собой двери и сказал:
— Ночью убит Перикачо. Его подстерегли дружинники-социалисты и застрелили на улице. Это произошло в три часа, и полиция, конечно, не найдет убийц.
Если бы Педро лучше знал состояние Аррараса, он не поспешил бы с этой новостью. Амбросио снова стала трепать лихорадка. Алдама ушел, а я не знал, как мне быть с моим другом — он громко выкрикивал в бреду бессвязные слова и все порывался встать с постели.
Случайно я выглянул в окно и замер — во дворе стоял полицейский. Облокотись о перила крылечка, он смотрел на окна второго этажа и словно бы прислушивался. Я поспешил к двери, набросил крючок и повернул ключ. С лестницы уже слышались шаги. Полицейский рванул дверь, звякнул наружной задвижкой. Аррарас привстал с постели, хрипло выдохнул воздух, потянулся руками к бинту. «Сейчас он опять закричит...» Поняв это, я метнулся к нему и зажал ему ладонями рот. Амбросио попытался вырваться, ему нечем было дышать. Я слегка отпустил руки, позволив Амбросио вздохнуть, но ему, наверное, привиделось что-то страшное, и он рванулся с постели так, что я не смог его удержать.
Проснулась Амая, села в кроватке, увидела, что мы с Аррарасом схватились в борьбе, и испуганно заплакала. В дверь снова застучали, и незнакомый голос приказал:
— Немедленно откройте!
Я шепнул сестренке:
— Подойди к двери и скажи, что ты одна, что мама ушла и заперла тебя на ключ.
У сестренки это получилось очень естественно, она говорила испуганно, сквозь слезы.
— Когда она вернется? — спросил полицейский.
Удивительное дело, девочка сразу же нашла ответ:
Когда купит молоко на базаре.
Полицейский потоптался у двери с минуту и стал спускаться по лестнице.
Только теперь я смог отпустить Аррараса. Постепенно он приходил в сознание, взгляд его прояснялся, руки слабели, больше он не отталкивал меня. Когда он успокоился и попросил воды, я рассказал ему, что случилось. Он внимательно заглянул мне в лицо.
— Значит, это я тебя исцарапал?
— Да ведь главное, что несчастье пронесло.
— Подойди ко мне,— сказал Аррарас.
Он взял мою руку, прижал к губам, потом ко лбу.
— Как это случается в жизни, мой мальчик! Парадокс... Есть такое ученое слово. Ты не давал мне дышать, чтобы спасти меня. Спасибо, мой мальчик.
Аррарас оставался у нас до осени, пока не окреп. Мы знали, что полиция разыскивала его во всех окрестных поселках, устраивала ночные облавы и обыски, но шахтеры сбивали ее со следа. Он очень томился бездеятельностью, и, когда мать, возвратясь с шахты, сказала, что должна уехать в Мадрид, а ему придется переправиться с помощью товарищей в провинцию Сантандер, Амбросио обрадовался и тут же принялся чистить свой пиджак.
— Торопиться не следует, — сказала ему мать. — Товарищи придут за тобой дня через три-четыре.
Он смотрел на нее растерянно.
— Каждый час мне кажется неделей... Правда, жаль расставаться с детьми — мы стали большими друзьями. Но если ты приказываешь...
— Я не приказываю, — сказала мать. — Мне так хочется, чтобы все обошлось благополучно. Это чудо, что тебя не нашли здесь. Жандармам невдомек, что в моей квартире, с которой они не спускают глаз, ты осмелился искать приюта. Но они могут нагрянуть в любую минуту, а там, под Сантандером, ты будешь в безопасности.
Мы сели завтракать, стол наш всегда был небогат, а теперь, с новым жильцом, и совсем беден, и Амбросио, снимая с вареного картофеля кожуру, спросил:
— Зачем тебе понадобилось в Мадрид? Я думаю, следует побыть с детьми.
— Это трудный разговор, — сказала мать. Она казалась очень усталой.
Я постоянно присматривался к ней, к выражению лица, к оттенку выражения, прислушивался к голосу, к его интонациям и научился распознавать и печаль, которую она старалась скрыть, и радость, которая передавалась мне с одного ее взгляда. Теперь я понимал, что она была как-то по-новому озабочена, у нее словно прибавилось уверенности, а энергии ей всегда хватало.
— Да, это трудный разговор, Амбросио, — повторила она, поцеловала Амаю и стала ее причесывать.
Когда дети подрастут, они поймут, что я представляла счастье шире семейного благополучия. Им будет понятно, что к такому представлению о счастье я пришла дорогой страданий. Они знают, что три их сестренки — Амагойя, Асусена и Эстер — спят на кладбище Соморростро. Там сотни шахтерских детей. Значит, нужно подняться выше личных страданий, к такому понятию материнства, когда для твоей души мало, если только твои дети пригреты и сыты, когда любой рабочий ребенок — твое дитя.
Амбросио отложил картофелину и молча глядел на мать. Она продолжала причесывать Амаю, а та прильнула к ее плечу.
— Я не поехала бы в Мадрид по личным делам. Для матери нет ничего дороже, как побыть со своими ребятами. Но есть, Аррарас, еще что-то. Оно не считается с личным. Впрочем, не тебе это объяснять.
Амбросио был взволнован, мать это заметила и спросила:
— Ты не голоден? Картофель совсем остыл...
— У меня спазма в горле, — с трудом выговорил он. — Я убеждаюсь, все больше убеждаюсь, что есть на свете святые люди. Нет, подожди, не смейся! Этих людей преследуют, мучают, казнят, а они, бессребреники, правдолюбцы, будто стоят на костре, и нет у них ни робости, ни раскаяния. Такая наша партия, Долорес, — босые батраки, чумазые шахтеры.
Странно, Амбросио и мать, наверное, считали, что мы, дети, не вникаем в их разговор. За три месяца, которые прожил у нас Амбросио, я многое понял и теперь твердо знал, что моя дорога — с матерью, Аррарасом, с Педро Алдама, с Перикачо.
Ночью Амбросио ушел, он не стал ждать провожатых и ушел со случайным попутчиком до окрестностей Сантандера. Мне было обидно, что он не разбудил меня, не простился, только оставил на память свою зажигалку в виде пистолета и передал матери, что каждый раз, когда мне понадобится огонь, я невольно вспомню своего друга.
Вскоре на праздничном гулянье в большом селении под Сантандером, где было много басков, спустившихся с гор, он успел раздать две сотни наших листовок. Шпики из полиции заметили его и опознали, они окружили Амбросио и, когда он стал уходить, открыли стрельбу.
Молодые баски схватились со шпиками, в ход пошли и камни и ножи. Амбросио успел покинуть площадь, горцы дали ему коня, и он ускакал из селения. Всю ночь он скитался в горах, у него разошлись швы и открылась рана, но Амбросио прошел двенадцать километров пешком и на зорьке снова постучался к нам.
— Прости меня, — сказал он матери, — я не мог оставаться без дела.
Мать была очень огорчена поведением Амбросио, а я в немом восторге ходил за ним следом. Он был моим героем, потому что не мыслил себя без борьбы, а борьбу без оружия.
Его теперь искали по всем селениям от Сантандера до Бильбао, от Систьерны до Витории и Памплоны.
В то утро к нам зашел нищий, незнакомый старый человек, у него была осторожная походка и такие движения плеч, рук, шеи, словно он все время извивался. Мать подошла к нему вплотную, стараясь помешать рассмотреть наше жилье, и подала монету. Но нищий глянул на меня, на Амаю, потом... наверное, заметил спящего Аррараса.
Бормоча благодарности, он стал спускаться по лестнице, а мать обернулась ко мне и спросила:
— Как думаешь, он очень беден?
— Нет, у него на руке часы. Это шпик. И глаза у него ледяные.
— Разбуди Амбросио. Молодец, ты не ошибся.
Мама не баловала меня похвалами, а такое слово, как «молодец», не помню, когда от нее слышал. Я разбудил нашего гостя, он тотчас набросил пиджак, достал из кармана пистолет и, сидя на койке, стал проверять его.
— Только не беспокойтесь, — говорил он, доставая обойму и жуя кусок хлеба. — Здесь я отстреливаться не буду. Они попытаются меня схватить, когда я выйду из дому. Если им это удастся — прикончат. Но я не дамся им в руки за здорово живешь.
— Ты правильно рассудил, сказала мать. —Теперь они станут следить за домом. Черным ходом ты сможешь выйти на огород и оттуда к террикону. Там рядом шахта и всегда есть рабочие. При них полицейские робеют. Через час я уйду на вокзал, а дети меня проводят. Мы повесим на двери большой замок, не думаю, чтобы они его сорвали. Так или иначе, здесь ты не должен стрелять.
Амбросио спрятал в карман пистолет.
— Я вообще не должен стрелять. Не сомневайся, я не забыл своего слова. Только если они начнут первые...
— Давайте позавтракаем,— предложила мать. Она была вполне спокойна.
Я невольно подумал: откуда у нее такая сила? Этот вопрос я задавал самому себе не впервые. Действительно, как ей, человеку с доброй душой, давалась такая непреклонная выдержка? И тут мне припомнился один промелькнувший час нашей жизни, особенный час, многозначительный и загадочный: в нем, пожалуй, был скрыт, если не полностью, то частично, ответ на мой вопрос.
Пока мама резала на ломти хлеб и наливала в стаканы молоко, я вспомнил, следя за ее спокойными руками, подробности того как будто уже далекого часа: синие сумерки, и первые огни на улочках Соморростро, и темное, безмолвное здание Народного дома. Мы возвращались от старенькой, больной учительницы, которую мама навещала почти каждую неделю; она говорила, что их связывала давняя дружба. Однако их встреча мне показалась странной: они почти и не беседовали, только рассматривали большие потрепанные тетради музыкальных нот. Кроме узенькой кроватки да этажерки, в комнатушке учительницы не было ничего, но полки этажерки сплошь загромождали кипы нотных тетрадей. Не вставая с постели, не оборачиваясь, лишь отведя руку, старушка находила нужную ей тетрадь и, раскрыв ее, вдруг становилась то печальной, то радостной, то удивленной. Руки ее легко взлетали, а седые волосы рассыпались по плечам — она пыталась напевать писклявым, сорванным голоском мотивы каких-то песен. Право, она была в эти минуты похожа на одержимую. Об этом я сказал маме, когда мы возвращались домой, и, конечно, не ожидал, чтобы мои слова ее затронули. Но она резко остановилась, придержала меня за локоть, заглянула в лицо.
— Мой мальчик, ты не понял, у кого мы были.
— Как же не понял! Были у больной старушки; в комнате у нее, кроме кучи тетрадей, ничего нет, а слушать, как она поет, — это одно мучение.
— Мы были у прекрасного человека, Рубен, — сказала мать. — Если бы ты знал, каким большим открытием обязана я этой доброй женщине! Мы с нею в дружбе уже десять лет, и все это время открытие, которое она помогла мне совершить, занимает в жизни моей, в душе очень большое место. Такое не просто объяснить, Рубен, потому что речь идет о целом мире, особенном и огромном.
Какие-то секунды она колебалась, раздумывая.
— Вот что, мой мальчик, ключи при мне, и мы войдем в Народный дом, и ты кое-что поймешь... Быть может, тебе это еще пригодится.
Мы прошли через полутемный двор к малой боковой двери, и мать достала из сумочки ключи.
— Не боишься? — спросила она, снимая замок.
— Нет, не боюсь. Только жутко. Дом такой большой, а в нем ни души.
В ее голосе я почувствовал улыбку.
— Как же «ни души», а мы с тобой? Правда, там, в зале, совсем темно, однако мы люди запасливые, имеются и спички и огарок свечи.
Мы вошли в зрительный зал, черный и гулкий и почему-то задержались у порога, слушая настороженную тишину. Но вот мама зажгла спичку и уверенно направилась к сцене. Я торопливо шел за ней, увлеченный и озадаченный, словно бы окруженный тайной. О, такого мне еще не доводилось испытывать — тайна наполняла черную глубину зала, тенями скользила меж кулисами сцены, пряталась в проходах меж рядами стульев, трепетала на стенах, будто взмахи неслышного крыла... Мать указала мне на крайний стул в переднем ряду и прошла на сцену.
Некоторое время было совсем темно, потом на сцене вспыхнул синеватый огонек спички, и от него ровно загорелся свечной огарок.
Я не раз бывал в этом доме и раньше и видел на сцене большой черный рояль, но не обращал на него внимания: поставили, значит нужен. А сейчас я стал догадываться, что тайна связана именно с ним, с этим громоздким черным ящиком, сверкавшим в свете огарка свечи, как глыба антрацита. Мать придвинула стул, открыла крышку рояля. Словно бы в нерешительности она помедлила немного, прежде чем сесть. Что в ней переменилось за эти неуловимо пролетевшие секунды? Не знаю, но что-то действительно переменилось. Клавиши блеснули, она уронила руку, и они вскрикнули. Тут мало сказать, друг Клавич, что я был удивлен: внутренне я приготовился к раскрытию тайны, к чуду, но оттого, что оно совершилось, мое удивление лишь возросло. В этой черной глыбе жили, звенели и сверкали весенние ручейки, торжественно гудели колокола, медленно дышал океан и отчетливо, радостно билось сердце. Чье сердце? Мамы? Или мое? Мне даже не верилось, что это играла она, что за время другой своей жизни, той, которая проходила вне семьи и дома, она успела так много. Однако я тут же сказал себе: что же ты удивляешься? Ведь это мама! И смотри, смотри на нее, она как будто бы помолодела.
Вот в чем, я думаю, частично он заключался, ответ на мой вопрос, откуда у нее такая сила. Это был один из ее родников. Она сама называла музыку миром особенным и огромным. А позднее мне приходилось наблюдать, как усталая, разбитая после трудных разъездов по стране, после тайных собраний и бесконечных преследований полиции, оказавшись в спокойной обстановке, в кругу друзей, уверенных и надежных, она, завидя рояль, присаживалась к нему и, словно бы лаская, гладила клавиатуру, а потом забывалась на долгие, долгие минуты за «Аппассионатой» Бетховена. Она любила «Аппассионату» и, помнится, говорила, что бросается в нее, как в могучий поток. Я видел, что выходила она из этого потока собранной и бодрой, и знакомая, мечтательная улыбка по-прежнему теплилась в ее глазах.
Я искал ответа на свой вопрос, и в какой-то мере находил его в том промелькнувшем часе открытия, и сейчас уверен, что был прав; борьба, поэзия, музыка неразделимы, они неразделимы в душе.
Но возвращаюсь к событиям того времени. Вскоре мы отправились на вокзал, оставив нашего гостя под замком. До вокзала от нашего дома путь был не близкий, а если идти по шоссе — это лишние три километра. Поэтому мы решили двинуться горными тропками напрямик, и едва поднялись по крутому склону оврага, как из кустов навстречу нам бросился какой-то человек.
Я сразу узнал старого шахтера Мариано, он был самый бедный на этой окраине Соморростро. Его давно уволили с шахты, и он ходил в лохмотьях, но никогда не кланялся начальству.
Он подбежал к матери, как-то неловко подпрыгнул, схватил ее руку и, задыхаясь, зашептал:
— Полицейские!.. Они поехали к твоему дому. Две машины с жандармами и большой грузовик с гвардейцами. Плохие дела... Очень плохие дела!
— Они нас не застанут, — сказала мать.
— Вас не застанут, но... Амбросио?
— Ты знаешь о нем?
Мариано вскинул голову.
— Будь уверена. Я умею молчать.
Мать приложила ко лбу ладонь и стала смотреть на дальнюю нашу окраину.
— Да, я вижу машины. Только им еще придется сделать большой крюк. Беги, Рубен. Может, ты успеешь. — И она дала мне ключ.
Кубарем я скатился в овраг, в одно дыхание поднялся по откосу, перепрыгнул канаву, пустился по узкой каменистой тропе. Машины уже огибали большую петлю шоссе. Я привык ходить в горах и умел выбирать кратчайший путь. Чтобы сократить расстояние, я выбежал прямо к обрыву, замер на секунду, оттолкнулся от кромки и полетел вниз. Когда я упал на осыпь, глинистая пыль набилась мне в рот, в глаза, в уши, но здесь я мог бы найти дорогу и на ощупь и, главное, я наверняка выиграл целую минуту.
Все-таки мы далеко ушли от дома, и бежать мне пришлось долго, уже нечем было дышать. Будто в полной и плотной тьме я поднялся по лестнице и сел прямо на пол на пороге.
Амбросио одетый лежал на койке, он медленно повернул голову, глянул на меня и все понял. Кривясь от боли, придерживая руками живот, он пробежал через комнату, стащил меня с порога, захлопнул дверь и набросил крючок.
— Где они?
— Они уже подъезжают. Сейчас будут здесь.
Он ощупал карман, взял с подоконника шляпу, неторопливо надел ее, оправил поля.
— Их много?
— Они на трех машинах...
Амбросио внимательно осмотрел комнату, поднял какую-то бумажку, сунул в карман брюк.
— Наверное, им черный ход известен, — сказал он. — Поэтому я поднимусь на чердак. Покажи мне люк.
Мы прошли в чулан, где стояла Приставная лестница, и он выглянул в узенькое окошко.
— А ведь высоко...
— И вам нельзя прыгать.
— Нельзя, но придется.
Со двора донесся гул мотора, стекло в окошке чулана задребезжало, послышались голоса. Я тоже выглянул вниз: во дворе было полно народу, у грузовой машины мелькали мундиры жандармов и зеленая форма гражданских гвардейцев.
— Почему же вы медлите? — не выдержал я. Было слышно, как хлопнула нижняя входная дверь.
— Ты мог бы подумать, что я трушу. Запомни, я презираю этих червей и не боюсь их. А ты так много сделал для меня, мальчик. Я стою и слышу как бьется твое сердце. Будь счастлив и гордись, ты выполнил первое партийное задание, мой маленький... мой большой друг.
Он наклонился, наверно хотел меня поцеловать, но передумал и крепко пожал руку. Ляда за ним захлопнулась, и я передвинул лестницу, повесил на двери чулана замок и бросил в помойное ведро ключ. Пускай ищут! Может, мы с Амбросио выгадали еще несколько минут.
А «гости», прибывшие в наш дом, в дверь не стучали, ударили каким-то бревном, и она слетела с петель. Когда они ворвались в комнату, я сидел за столом. Передо мной лежали задачник и тетрадь, я даже успел переписать задачу.
Они ни о чем не спрашивали меня, заглянули в шкаф, под кровать, отбросили и перевернули кроватку Аман.
В комнату вошли еще пятеро, и очень высокий, тонкий, с усиками ниточкой офицер строго приказал мне:
— Встать!..
Я встал, а он схватил тетрадь и задачник, быстро перелистал их и швырнул к печке.
— Паинька мальчик делает уроки? Ты перестань, змееныш, валять дурака. Где Аррарас?
— Аррарас? Кто это? Я такого не знаю.
— Э, да тут есть черный ход! закричал кто-то из полицейских и отвлек офицера.
— Осмотрите лестницу, приказал он и кивнул на дверь чулана. — Откройте и эту нору и не ждите пули — стреляйте.
Офицер медлил с допросом, пока полиция и гвардейцы обыскивали квартиры соседей, подвал, сарай, все закоулки и пристройки. Я посмотрел на ходики, висевшие на стене, обыск продолжался уже тридцать минут. Наверное, мама и Амая теперь пришли на вокзал. А что же Амбросио?
— Подойди ко мне, — небрежно обронил офицер, он сел к столу напротив меня и стал не мигая глядеть мне в глаза. Полицейские тотчас выстроились перед ним поперек комнаты и напряженно ждали.
— Осмотрите чердак, — проговорил он лениво, сквозь зубы, и тут же спохватился: — Обследуйте каждую щель. Видите, этот чертенок побледнел. Быстро наверх, быстро!
Сердце мое упало. «Не сдавайся, Амбросио!» Но как могло случиться, что я побледнел? Если бы на моем месте была мама, или Альваро, или старик Мариано, разве они сробели бы? Мелькнула мысль: «Может быть, этот, с усиками, обманывает меня, а я нисколько себя не выдал?»
— Сейчас мы поймаем вашего гостя, — сказал офицер, — и спустим с него кожу. Ты услышишь, как он будет выть. А тебя, грязный чертенок, и твою мамочку ждет тюрьма. Кто еще у вас бывал, кроме Аррараса?
— Я никого не знаю. И Аррараса не знаю.
Он хрустнул пальцами.
— Обучен.
Жандармы одновременно загалдели, кто-то из них громко засмеялся, кто-то сдвинул со шкафчика сахарницу, и она со звоном разбилась. Потом шум оборвался, и я понял: случилось что-то важное, возможно, они схватили Аррараса.
Но произошло другое: в комнату вернулись трое полицейских, которые обыскивали чердак. На их мундирах, фуражках клочьями висела паутина и по запыленным потным лицам струйками стекала грязь. Чем же они были так смущены? Почему офицер привстал с табурета и весь напрягся, словно готовясь броситься на них?
В руках у полицейского я увидел веревку, ту самую, на которой мама развешивала белье. Он щелкнул каблуками и вытянул по швам руки.
— Что? — чуть слышно спросил офицер.
Полицейский бесстрастно отчеканил:
— Аррарас, как видно, бежал, пока мы вели обыск. Он спустился над головами гвардейцев и ушел.
Офицер странно изломился в пояснице, туго перетянутой ремнем, вскинул руку, и в воздухе свистнула веревка. Но полицейский отступил на шаг, и веревка его не задела.
— Позор! Старые бабы! — хрипло и надсадно выкрикнул офицер и, точно впервые заметив меня, стал крадучись обходить стол: губы его, брови, щеки дергались, и дышал он, как после бега.
— Ты, значит, знал, где прячется Аррарас, и молчал, чтобы выиграть время?
Веревка взвилась надо мной, но я подставил руку, и мне особенно больно не было.
Офицер колотил о пол каблуками, и пена показалась на его губах.
— Он знал, вы слышите? Он знал!
И опять взвилась веревка. Я не отклонился и не поднял руку. Мне сильно обожгло шею и плечо. Это было очень обидно. Он пришел в наш дом, взрослый человек, чтобы издеваться надо мной. Теплая рука Амбросио как будто еще лежала на моей голове. «Запомни, я презираю этих червей и не боюсь их». Я тоже, Амбросио, тоже! Передо мной стояла чернильница. Я схватил ее и запустил в офицера. Промахнулся. Чернильница ударилась о стену и разлетелась вдребезги. Кто-то рванул меня сзади и швырнул на пол. Я попытался встать, но офицер шагнул ко мне и вскинул ногу. Прямо перед моими глазами блеснул начищенный сапог, я потерял сознание.
Когда я называю имя Амбросио, мне есть о чем вспомнить. Мамины друзья, которые бывали у нас, читали книги, беседовали, спорили, смотрели на меня как на мальчишку. Амбросио назвал меня другом, и тут не было ни преувеличения, ни скидки, ни добренькой фальши, потому что мы простились в смертельно опасную минуту и мы действительно стали друзьями.
Когда полиция и гвардейцы покинули нашу окраину, Марио пришел с вокзала с Амаей и они увидели, что здесь произошло. Старик рассказывал мне позднее, что привести меня в чувство было нелегко: он делал мне искусственное дыхание, брызгал водой, разыскал нашатырь и давал нюхать. Едва лишь заметив, что я ожил, он сказал:
— Ты баск, а баски — люди из кремня. Я видел пятно на стене, на полу осколки чернильницы. Жаль, что у тебя не было гранаты: они еще больше убедились бы, что это значит — баск.
Я спросил об Аррарасе. Он ущел! По-видимому, он даже не особенно спешил и успел крупно написать мелом на заборе: «Презренные черви, час расплаты близок!»
Это, друг Клавич, лишь один неприметный эпизод, он относится к первой ориентировке в жизни. Обычно мальчишки спрашивают себя: кем буду? Теперь я мог бы ответить: «Буду как Амбросио».
У нас на высотах Серантеса есть тропинки смелых. Чуть различимые, они вьются по карнизам скал и вдруг выводят к огромному обрыву. Внизу — глубина; слева крутой откос; справа — стена утеса. Она почти отвесная, но время, ветер, дожди высекли на ней уступы. Добраться хотя бы до первого уступа — дело рискованное, но мальчишки решаются. Они словно впиваются в камень всем телом и, хватаясь за корни редких кустарников, за грани и зазубрины трещин, продвигаются вперед… Однажды и я решился. Да, было страшно. Один неверный шаг и — конец. А потом, когда я добрался до уступа, мне стало радостно и легко. Оттуда открывался такой простор, что красоте этой даже не верилось.
В давнюю памятную минуту, когда я узнал, что Амбросио прошел через цепь облавы, у меня было чувство, словно я достиг того уступа.
ОБИДЫ И РАДОСТИ
В следующей записи Клавича много вычеркнутых строк. Все же их можно прочесть: это его размышления о жизни, о ее ценностях, о веселом и грустном, об одиночестве и дружбе. Видимо, перечитывая запись уже после госпиталя, по возвращении в школу, он решил снять навеянное тишиной белой палаты личное и прослеживать другую судьбу.
...Налет полиции на поселок и обыск в нашей квартире, — продолжает запись, — не помешали матери уехать в столицу. Я этим гордился. Черт побери, не одним торговцам, хозяйчикам, чиновникам в столицу наезжать — мы, шахтеры, тоже такое можем!
Конечно, я знал, что без матери мне будет нелегко.
Правда, на окрестных шахтах жили мои тетки, мамины сестры и наша бабушка, строгая и набожная, но к нам они приходили очень редко, опасаясь, что и про них скажут — коммунисты. Эти женщины совсем погрязли в своих огородишках, в базарных корзинах, пеленках; на людях сокрушались и громко жалели мать, мол, сбилась с пути, «черные книги» читает, и даже монашек подсылали, а мама с грустью говорила, что ей очень жаль их, смирных и темных.
Нет, на их помощь я не надеялся, да и что на кого- то рассчитывать, если сам уже научился и нехитрый обед приготовить, и полы вымыть, и постирать — дело несложное, стоит захотеть.
Четыре дня пролетели, и к назначенному часу я умыл, причесал, приодел сестренку, и мы вышли на дорогу встретить мать. Поднялись на холм, чтобы она еще издали нас заметила. Дул северный ветер с моря и, как это зачастую у нас бывает в конце сентября, порывами хлестал дождь.
Мы стояли на холме и ждали. Поезд уже прошел, и внизу, на шоссе, промчались пролетки извозчиков, последний пешеход скрылся, и дорога опустела. Но мама в тот день не приехала, и мы вернулись домой. Электрического освещения в нашем доме не было, по вечерам мы зажигали лампу, но карбид кончился, и весь вечер мы сидели с Амаей в темноте. Я стал рассказывать ей сказки, но она уже их знала, и ей было неинтересно. Тогда мы начали думать вслух, что делает сейчас мать и почему она задержалась в столице. Отец все еще находился в тюрьме, и мы теперь решили, что мама, наверное, выручает его из тюрьмы. Какое это счастье, если они возвратятся вместе!
Домик наш ветхий поскрипывал от ветра, как старый баркас, и каждый шорох, стук, скрип заставлял нас вздрагивать — ну, точно, шаги на лестнице! Нет, мама не вернулась. Она не вернулась и на следующий день, и через неделю, и через месяц.
Через три домика от нас жил заезжий торгаш, плут и скареда, соседи терпеть его не могли. Он был жаден и хитер, еще и родовитостью похвалялся: когда-то какой-то его родственник находился при королевском дворе. Шахтерам на эту знатность, конечно, наплевать, а торгаш, как видно, полагал, что родовитость ему защита, и бесстыдно обсчитывал их. За это его и, прозвали Пауком. У Паука был сынок тремя годами старше меня, по жадности, по хитрости весь в папашу: к шахтерским ребятам с презрением, перед богатыми — вьюном. Нас иначе как оборвышами не называл, а мы его — Паучонком.
В наших шахтерских поселках между ребятами всегда война. Говорят, издавна такое повелось. Однако еще не бывало, чтобы свои, с одной улицы, между собой, воевали. А тут случилось. И затеял это Паучонок. Собрал он дюжину «чистеньких» ребят и нас, оборвышей, стал преследовать. При первом же случае наши намяли ему бока. Сколько тут шума и крика было! Даже полиция приезжала, но виновников не нашла.
После того случая стал Паучонок всем нам мстить. То камнем огреет и спрячется, то из рогатки прицелится, то хворостиной полоснет из-за угла.
Я обходил его дом, потому что, случись между нами что-нибудь, он обязательно приплел бы к неприятности и мою мать. У нее и без того было достаточно невзгод. Когда мы встречались и он строил мне рожи или грозил кулаком, я проходил мимо, хотя, сказать по правде, руки так и чесались. А теперь, когда мама уехала и не вернулась и я один остался на хозяйстве — колол дрова, топил печь, бегал на рынок за молоком, готовил и убирал, и все время чувствовал ответственность за сестренку, мне было не до войны мальчишек.
Утром я возвращался с рынка, мы еще не завтракали, и я спешил. Я нес бутыль, молока, подсчитывал оставшиеся деньги и думал, скоро ли приедет мать. А если не приедет? Наверное, я крепко задумался и не заметил, как очутился у его калитки. Он, видно, подкарауливал меня. Калитка с треском распахнулась, и Паучонок толкнул меня плечом.
— Что шляешься тут, оборвыш, под нашим забором?
Я ничего не ответил и хотел пройти мимо, но он заступил дорогу.
— Разве это твоя улица? Пропусти.
Он вскинул руку.
— Ты мне приказываешь, дрянь?
Стеклянная бутыль со звоном рассыпалась в моих руках, молоко плеснуло на пиджак, на брюки, на землю. Я растерялся и молча смотрел на Паучонка, на его круглое розовое лицо, полное злорадства, а он пятился назад и уже приоткрывал ногой калитку.
В руке у меня осталось донышко бутылки, и я запустил его в розовую ненавистную физиономию. Но Паучонок резко наклонился, и только мелкие осколки осыпали его. Он заорал и бросился наутек, а я рванулся за ним во двор, хотя и знал, что он старше меня и сильнее. Догнать его мне не удалось, словно из-под земли передо мной встал огромный и усатый Паук. Он схватил меня за плечо, отшвырнул с дорожки, задохнулся от ярости:
— Чей?!
Я назвал свою фамилию, и это окончательно его взбесило.
— Как ты смеешь врываться в мой двор, бандит, и преследовать моего сына?
— Он разбил бутыль с молоком... Чем я накормлю сестренку?
Старый Паук не хотел слушать меня. Руки у него были длинные и цепкие, и куда бы я ни бросался, от них невозможно было уйти. Неожиданно он ударил меня ногой под колени, подхватил, встряхнул, проволок по дорожке и вышвырнул на улицу. Падая на размокшую землю, я порезал руку об осколок стекла. Но не это меня испугало, нет, не это. И боли я не почувствовал. Меня оглушили слова Паука:
— Ну, семейка!.. Что, захотелось, маленький коммунист, увидеться с мамашей? Сейчас я вызову полицейского, и ты увидишься с ней в тюрьме.
Я медленно встал с земли. Грязь была жидкая, и ноги мои скользили. Не отдавая себе отчета, что делаю, я взмахнул рукой. Взмахнул и заметил, как брызги крови упали на светлый костюм Паука и на калитку. Странно, он испугался. Да, испугался, не иначе, потому что поспешно отступил назад и юркнул во двор. Я побрел домой. Улица передо мной качалась, а на сердце становилось все тяжелей.
Прежде чем войти в дом я старательно обмыл раненую руку в бочке под водосточной трубой, перевязал ее платком. «Теперь побольше беспечности», — сказал я себе и стал насвистывать песенку.
— Какой ты веселый! — встретила меня Амая. — Узнал, когда приезжает мама?
— Так точно! — ответил я по-солдатски. — Она приедет через три дня. Но знаешь, какая история со мной случилась? Соседский козел накинулся на меня и выбил из рук бутыль...
Она удивленно засмеялась.
— Ух, интересно! И большой козел?..
Я стал ей рассказывать про большого страшного козла, и она рассудительно решила:
— Ну и пускай. Делать нам все равно нечего, мы будем лечить твою ладошку.
Я принялся чистить картофель, а сестренка мне помогала.
— Да, знаешь, кто к нам приходил? — вспомнила она. — Дедушка Марио.
— Что он говорил?
— Ничего не говорил. Посидел, помолчал. А глаза у него были мокрые.
— Может, он плакал?
— Нет, он говорит — от ветра.
Так мы готовили завтрак и разговаривали, но я не мог понять, какая тяжесть давила меня и отчего комната словно бы стала тесной, а все в ней уныло и печально. Тогда я еще не знал, что есть такое медленное страдание — одиночество.
Я думал о матери: «Что с нею? Почему Паук выкрикнул, что увижусь я с ней в тюрьме?» Это не случайно. Он дружил с полицией. Пролетка начальника часто останавливалась у их калитки. Пауку, наверное, были известны все новости нашего городка. То, чего я боялся больше всего на свете, как видно, случилось. Мать тоже забрали в тюрьму. Я пытался скрыть от сестренки свою тревогу. Она тоже прислушивалась к разговорам взрослых и знала, да и все наши шахтерские ребята знали, что такое тюрьма.
Но вот послышались шаги на лестнице, и дедушка Марио встал на пороге. Вид у него был торжественный, сутулость исчезла, и на впалых щеках разгладились горькие морщины. В руке он держал большую корзину, приподняв ее на уровень груди, щурил глаза, и они весело блестели.
— Принимайте посыльного от шахтеров, чумазые, тут у меня скатерть-самобранка.
Он осторожно поставил на пол корзину, снял мокрую шляпу, сбросил плащ и стал выкладывать на стол хлеб, сахар, крупу, масло, макароны. Такой горы продуктов у нас никогда не бывало, а Марио все продолжал выкладывать свертки.
Сестренка захлопала в ладоши:
— Мама прислала!
— Нет, — строго сказал Марио. — Такие дела обмана не терпят. Это шахтеры «Кончи» вам передают.
Сестренка удивилась:
— Да разве они знают нас?
Марио сдвинул брови:
— А как же? Ты ведь на свете не одна.
— Что же мы, дедушка, нищие? Нет, мы ничего не возьмем.
Он обозлился.
— Дурак! — сказал он и затряс седой лохматой головой. — Я сам скорее с голоду подохну, чем подаяние приму. Ответь мне, глупыш, на милость, если товарищ в беде и ты подаешь ему руку, чтобы поддержать, разве он должен из спеси оттолкнуть твою руку?
Я не знал, что ответить, у меня не было таких слов, но то первое чувство тревоги снова овладело мной. Марио взглянул на мою перевязанную руку и спросил:
— А это что? Как случилось?
Я отослал сестренку за щепками в сарай и, пока она бегала, рассказал ему о встрече с Пауком.
Их следует повесить, — сказал Марио.— И Паука и Паучонка. Старший Паук подпаивает шахтеров, выпытывает секреты, а потом доносит полиции. Это уже известно. Правда, первое предупреждение он получил. Ребята камнями побили ему окна. Тут без полиции не обойдется, так что приготовься и не робей.
Вот это была новость! Какие ребята? Кто знал, что Пауки обидели меня, кто за меня мстил? Я стал расспрашивать Марио, но дедушка отмахнулся рукой:
— В общем стекла вдребезги. И верно. А как же иначе? Ты ведь не один.
Мне очень хотелось побежать и посмотреть, как побиты у Пауков стекла, но Марио не разрешил:
— Не беспокойся, что мать задержалась в дороге.
У нее много дел, не то что у нас с тобой.
— Скажите мне прямо, дедушка; мама в тюрьме?
Он надевал шляпу, и она выпала из его рук.
— Что? Кто это сказал?
— Паук.
Марио поднял шляпу, усмехнулся, потом стал серьезным и снова усмехнулся. Я понял: он растерялся.
— Ты баск, — сказал он твердо и подал мне руку. У него была сильная, горячая рука. — Ты должен крепиться. Враг назвал тебя маленьким коммунистом — гордись!
Марио ушел, а через полчаса в комнату влетел полицейский. Это был сам начальник полиции, я видел его много раз, высокого, перетянутого ремнями, в глянцевых крагах, с непременной тростью в руке. У него были словно приклеенные черные усики в линеечку на длинном неподвижном лице. И сейчас это длинное лицо было неподвижно, а глаза шарили по углам комнаты и не замечали ни сестренки, ни меня.
Он стряхнул с фуражки капли дождя, стукнул стулом, сел. Над приметной лысиной струйкой поднимался пар.
— Ты даже не прячешься, сорванец. Побил у соседа все стекла в доме и не прячешься? Ладно, не будем ссориться, выкладывай, кто был с тобой?
Видно, в тот день начальник был в хорошем настроении: вместо крика и угроз я услышал негромкий, воркующий голос:
— Если говорить напрямик, ты не виновен. Этот проказник Кальво случайно разбил твою бутыль. Ты позвал на выручку приятелей. Вот они и отомстили. Верно?
— Верно, — согласился я. — Только я их не звал.
— Хорошие ребята. Все четверо хорошие, да?
— Сколько их, не знаю. А ребята хорошие.
Он потрепал меня по плечу.
— Нужно замять эту историю. Что ж, купим торговцу стекла. Стоят они недорого, и я дам в магазин записку, а позже заплачу. Однако смотри, это между нами: я ведь не имею права помогать таким лихим ребятам. Ты соберешь их, пойдете в магазин и принесете стекла.
И снова я согласился:
— Хорошо. В магазин я пойду один.
— Не донесешь!
— А где же их найти, ребят, что били окна?
— Ты их отлично знаешь.
— Ни одного.
Он встал, закурил, хлестнул тростью по столу.
— Собирайся! Я отведу тебя в тюрьму. Там ты как миленький все расскажешь.
Амая заплакала и вцепилась в мой пиджак. Почти волоча ее через комнату, я нашел шапку, надел. В это время дверь тихонько открылась и вошла незнакомая женщина. Крепкая, обветренная, с густым загаром на лице, шее, руках, обнаженных до локтей. Она двинулась к начальнику мягкой, неслышной походкой. Он резко крутнулся на каблуке:
— Кто такая?
— Сейчас узнаешь.
Похоже, на лестнице успело собраться много людей: вошли еще две женщины, старые и мрачные, а за ними, запыхавшись, вбежал дедушка Марио. Споткнувшись, он чертыхнулся, выпрямился, вскинул голову и глянул через плечо на удивленного начальника.
— Что вы тут делаете, господин?
Женщина-богатырь оказалась ростом повыше начальника, она двинулась на него всем своим внушительным корпусом, и он несколько отступил. Я успел подумать, что где-то видел эту силачку, может, и не ее, но таких, как она: в рыбацких поселках по нашему побережью они сами смолят суда, вытаскивают их на берег, управляются с парусами, поднимают сети, и слава за ними водится отважная и лихая.
— Ступай отсюда, начальник, — сказала она, прямо и неотрывно глядя ему в глаза, грозная и красивая. — Хватит, что нам покоя не даете. Детей не трогайте.
Сгорбленная седая старушка пронзительно взвизгнула и выбросила вперед сухие кулачки.
— А тронете — вот вам! Разорвем...
Начальник отмахнулся от нее тростью.
— Ты, бабка, спросонья?
Дедушка Марио, весь гордость, выглядел потешно.
— Да будет вам известно, служитель капитала, — прошептал он, злобно кривясь, — что шахтеры окружили дом и, если вы не уйдете подобру-поздорову, быть беде.
Что сталось с начальником! Странно было видеть его испуганным: лицо неподвижное, бледное, а бровь так и скачет то вверх, то вниз. Я следил за его рукой — она торопливо нащупывала на столе фуражку.
— Поосторожней, вы будете отвечать!.. Я еще потребую... — Голос его сорвался, и весь он сразу как-то обмяк. Он знал, что с шахтерами-басками шутки плохи. Торопливо, бочком обходя рыбачку, он двинулся к выходу.
Я подбежал к двери и смотрел ему вслед, пораженный, оглушенный всем, что случилось в нашем доме. На лестнице стояли шахтеры. Некоторые прямо со смены — черные от пыли, только зубы поблескивали да белки глаз. Были тут и женщины, их жены, все молчаливые, собранные, гневные. Начальник с трудом протиснулся в толпе и выбрался во двор.
На крылечке он помедлил, удивленно пожал плечами, быстрым движением поднял воротник плаща и сошел по ступенькам.
Я оглянулся на своих гостей. Дедушка Марио заглядывал в зеркальце, висевшее на стене, и вид у него был важный, самодовольный. Две старушки, сблизив носы, о чем-то шептались. А рыбачка-силач смотрела на меня, сложив на груди руки, и смеялась:
— Испугался?
Какие белые, белее снега, были у нее зубы! И какие сильные, спокойные руки! С одного взгляда можно было понять, что она ничего и никого не боялась. И откуда она, такая чудесная, появилась в нашем доме!
— Нет, не испугался, — ответил я. — Чего мне бояться, если не виноват?
Она легко подхватила на руки сестренку.
— Не виноват, говоришь? Нет, малыш, мы всегда виноваты. Законники найдут вину. Мы — черти, они — ангелы. Только пускай не лезут с постными рожами к нам, чертям...
Я тоже засмеялся. До чего же правильные слова! К взрослым, которые хорошо ко мне относились, у меня было настороженное чувство: а вдруг начнет сюсюкать да жалеть? В этой сладенькой ласке всегда есть капелька неприятного притворства. А рыбачка говорила со мной как со своим товарищем, и даже в слове «малыш» слышалось одобрение. Она тут же занялась Амаей: со мной, мол, все ясно, свой человек, поймет.
У нас в горах целыми неделями льют дожди. Ветер приносит их с моря, и они хлещут не переставая. Земля промокает насквозь, до каменного подстила, и случаются оползни. Смотришь, половина горы передвинулась: был овраг — и не стало; роща зеленела на склоне и переехала вниз. Грозное это страшилище — оползень: все движется — дома, деревья, огороды, дороги, и огромные трещины вспарывают землю, с гулом и треском рвут в клочья.
Мальчонкой я бродил с ребятами в горах, и мы очутились на оползне. Первыми опасность почуяли козы, они паслись на кромке обрыва и вот шарахнулись в сторону со всех ног. Потом стал слышен шорох, он доносился откуда-то из глубины. Весь отлогий откос горы дрогнул, сорвался и поплыл, а земля стала рваться на части и швырять из трещин камни, корневища, пыль.
Только считанные секунды назад все было здесь и спокойно и тихо: солнышко проглянуло после дождя, и влажные травы дымились. Мох на ступенях скал был совсем плюшевый, и хотелось лечь на него и смотреть в безоблачное небо. На этих скалах встречались надписи, высеченные, наверное, столетия назад. Тех людей уже, давным-давно не было, а непонятные надписи сохранились, потому что камень стоял навечно.
Нет, и он, оказывается, знал свой срок, и, когда в глубинах что-то случилось, не выдержал, сломался какой-то замок, тайная сила, для которой нет мер, встрепенулась, и кусок мироздания затрещал по всем швам.
Меня поразило ощущение этой тайной силы. Я не успел испугаться, не понял, что происходит. Будто незримый водоворот подхватил меня и понес, и тут же я стал его частицей... Почему-то и теперь, когда в нашем доме стряслось такое — незнакомые женщины вошли в квартиру, как хозяйки, а шахтеры заполнили двор, когда сам начальник бежал без оглядки, сломав и отбросив свою трость, — мне вспомнился тот случай в горах и то ощущение тайной силы.
Так она пришла ко мне, первая радость. Не. была она подарком на именины и не была рождественской елкой. В нашем доме и вообще никому не заметить бы в тот день радости.
И все же она пришла. Я знал, что начальник вернется, обязательно вернется с целой ватагой полицейских. Что будет? Меня отведут в тюрьму? Ну и пускай. Того, что уже случилось, они не изменят. Я становился сильным и понимал это, хотя разбираться в своих чувствах не умел.
С этого дня в нашем доме постоянно присутствовал кто-нибудь из посторонних. Две или три соседки приходили под вечер, готовили, убирали, штопали обноски, придумывали себе работу. Это было похоже на дежурство, может, они и условились дежурить у нас? Бывали и мужчины, молчаливые, задумчивые. Полиция больше не появлялась, а Паук вскоре продал свой дом и магазин, который никто не посещал, и уехал.
Я помню эти долгие зимние вечера, неяркую лампу на столе, женщин, склонившихся над вязаньем легких, как пена, платков из козьей шерсти. Нам хорошо было с сестренкой сидеть рядом с ними за столом, слушать негромкий разговор, смотреть, как равномерно мелькают в их ловких руках спицы, роняя с кончиков пушистую ткань.
Иногда они пели старинные песни басков, и отважный богатырь Эчекохауна неприметно присутствовал за столом.
Неприметно присутствовала и мама. Ее не было здесь, но она была. Тихо светилась лампа — эту лампу обычно она зажигала. Эту мою рубашку мама сшила сама. Если я брал книгу — страницы хранили тепло ее рук. Шел январь 1931 года, а мать уехала от нас еще в конце сентября, и за последние недели мы не получали от нее вестей.
Вечером, когда в печке потрескивают дрова и от света лампы в комнате особенно уютно, а за окошком шумит непогода и кружится снег, почему-то думается о тех, кто в дороге, в буранах, ревущих среди гор. «Может быть, и мама в дороге? — думал я. Ветер, холод и ночь, и она с трудом отыскивает тропинку...»
Так случается — подумаешь и поверишь. Я взглянул на сестренку, и она взглянула на меня, насторожилась, притихла.
А с лестницы и правда послышались шаги. Так только она ходила! Амая вскочила из-за стола, едва не опрокинув лампу, вскинула ручонки и с криком бросилась к двери:
— Мама...
Она не ошиблась. Мать стояла на пороге, бледная и усталая, вся в ледяшках, покрывших платок и пальто, прядь волос на лбу и брови. Она улыбнулась, уронила корзинку и легко подхватила на руки сестренку. Что меня удивило — она повторила знакомые слова:
— Как хорошо... Вы не одни.
ДОРОГА
С возвращением матери из тюрьмы в доме все стало, как прежде, как всегда бывает, если после долгой разлуки возвращается мать.
Прошла неделя, не прошла — промелькнула, и снова в нашей тесной квартирке собирались шахтеры, приезжали студенты из Бильбао, даже как-то побывал стройный, веселый, пропахший морем военный матрос.
В субботний и в воскресный вечера, когда гости чинно усаживались за стол, я снова слышал знакомый разговор о руде, о тяжких условиях работы и, конечно, о заработке. Руда и заработок, шахты и хлеб, темная сила — воля хозяев, которой все в нашем краю было подчинено, — понятия главные, накрепко связанные между собой, и мы, ребята, постигали это с младенчества.
Мать — дочка шахтера, внучка шахтера; отец — потомственный шахтер, и вся наша семья — веточка большого и древнего рода шахтеров — всегда жила событиями шахты, ее новостями, трагедиями, скупыми радостями и надеждами. В одиннадцать лет я уже кое- что понимал. И я гордился матерью, хотя почтенные люди городка — я сам это слышал — грубо и крикливо ее ругали.
Сестры матери, мои тетки, теперь, когда она побывала в тюрьме, и совсем перестали к нам ходить. Вечерами я видел их на крылечках казенных домов, в которых они квартировали, с неизменными молитвенниками в руках — показателями благонравия.
Нет, мать была не такой: она никогда не обманывала ни себя, ни других и не терпела фальши. Ей выпало страшное горе — похоронить трех детей, но она не смирилась, не опустила руки. Ночами напролет она читала книги, исписывала тетрадь за тетрадью, с кем-то спорила, протестовала, удивлялась и радовалась. А шахтеры слушали ее, как дети слушают учительницу в школе.
От матери я впервые услышал это имя — Ленин. И другие звучные слова: Россия, Москва, коммунисты...
Помню, мы шли с нею на шахту и на дороге у террикона увидели толпу: она двигалась медленно, молчаливая и угрюмая, и встречные прохожие поспешно отступали в кювет. Дедушка Марио, конечно, был здесь: ни одно событие на шахте без него не обходилось. Он подбежал к матери:
История повторяется! Снова завал в том самом проклятом штреке. Двое искалеченных... Ну? Управляющий отказался предоставить машину, так и несем их посменно, на руках.
Резким движением мать сорвала с головы платок.
— Шахтеры, мы должны потребовать ответа...
Где-то в хвосте толпы брели жандармы. Их было трое, они постоянно дежурили на шахте. А теперь, едва лишь мать заговорила и толпа замедлила шаг, щуплый человек в мундире выбежал вперед, взвизгнул, замахал руками:
— Ты хочешь мутить воду? Ты, коммунистка...
Он произнес это слово как ругательство. Даже косматые брови его подскочили, а глаза выпучились, будто от страха.
— Да, коммунистка, — сказала мать, и оно уже звучало совсем по-другому, это слово, мечтательно и светло. Так говорят: привет, весна, счастье.
Тогда я задал матери смешной вопрос, позже она повторяла его с улыбкой. Мы продолжали путь к шахте, и я спросил:
— Расскажи мне, мама, кто ты?
Она задумалась, коротко, серьезно взглянула на меня и стала рассказывать о Ленине.
Я не понял ее и спросил снова:
— Ты расскажи о себе. Почему ты говоришь о другом человеке?
— Потому, что он научил меня жизни, — сказала мать. — Научить жизни — это все равно что слепого, который заблудился в горах, вывести на дорогу. Больше того: дать ему, слепому, зрение.
События, о которых я рассказываю, относятся к 1932 году, когда у власти в Испании стояло республиканско-социалистическое правительство. Оно угодничало перед помещиками, заводчиками, монархистами, церковниками и расстреливало рабочие демонстрации в Пасахесе, Кордове, в севильском парке Марии-Луисы, в Эстремадуре и многих других городах.
Особенно свирепо оно расправлялось с коммунистами, но люди, которые приходили в наш дом, я примечал это, становились все увереннее и веселее. Их было много. И это я понимал. Иначе откуда бы у них такая уверенность? Они называли города Бильбао и Сантандер, Овьедо и Хихон, Мадрид и Барселону, и везде у них были верные друзья.
Не думал я, не гадал, что та мечта, какую даже близким приятелям нельзя было высказать, чтобы не прослыть, хвастуном и врунишкой, что она вдруг так просто осуществится: я увижу Мадрид!
Мы сидели за ужином, и гостей у нас в тот вечер не было, весело тараторила Амая о своих маленьких делах, а мать слушала ее, улыбаясь глазами.
Она посмотрела на меня, и взгляд ее стал серьезным.
Я хочу попросить тебя, Рубен... Вот что, поедем со мной в Мадрид?
Ложка выпала у меня из руки. Ну, мама, она хочет попросить! Но, может, я ослышался?
— Конечно, поедем... и Амая?
— Нет, — грустно вздохнула мать. — В столице у нас нет квартиры. Я говорила с бабушкой, она возьмет Амаю на время к себе.
Сестренка собиралась заплакать, но я спросил: «Как, ты не хочешь, чтобы я увидел столицу и все рассказал тебе?» Она притихла.
— Когда же мы поедем, летом?
И мать ответила просто, как говорят: завтра пойдем на рынок.
— Завтра, — сказала она.
Было отчего заплясать и волчком завертеться!
— Значит, начнем собираться? Поезд теперь приходит рано утром.
И еще одно чудо!
— Нам поезд не нужен, — сказала мать. — У инженера Эгидасу есть своя машина. Он уверяет, что так лучше, чем поездом.
Утра, казалось, никогда не настанет, но оно наступило, и еще на рассвете я занял в переулке наблюдательный пост, чтобы первым заметить инженерскую машину.
«Фордик» оказался дряхлым и облезлым, а инженер — стройным, подвижным, веселым дяденькой, он сразу же доверил мне насос, заметив, что в дороге это самая важная штука.
Кроме инженера, в машине сидели еще двое строгого вида мужчин, незнакомых мне. Они рассматривали карту, и старший, с заметной сединой в висках, задумчиво говорил:
— Если не застрянем — доедем. Если не доедем, что ж, машину донесем.
Он очень понравился мне, Висенте Урибе, это ведь не каждый скажет: машину донесем!
Матери Урибе уступает место рядом с водителем, я пристраиваюсь рядом с Меной.
Строгая бабушка держит одной рукой Амаю, другой — знакомую книжицу-молитвенник, но в минуту прощания она роняет молитвенник, не заметив этого, и только теперь я уже не сомневаюсь, что действительно покидаю наш дом.
Что это за наслаждение — промчаться в настоящем автомобиле знакомой улицей нашего нешумного городка, проскользнуть под канатами подвесной дороги, взлететь на далекий перевал и двигаться все дальше, через горы, реки, долины, которых еще не видел никогда!
Правда, мотор машины не завелся сразу, он долго фыркал и чихал, а Эгидасу и Мена поочередно крутили заводную ручку и ругались. Когда им это уже надоело, и они оба присели отдохнуть, мотор вдруг взревел, как обиженный, и водитель прыжками бросился к баранке.
Мы поехали. С горы машина быстро набирала скорость. Она вообще, как видно, была приспособлена ездить только под гору. На первом подъеме нам пришлось выйти и толкать ее добрые два километра. Понадобился и мой насос. Потом опять начался спуск, и так весело было следить за мельканием каменных столбиков, осыпей, кустов.
На крутом перевале, у каменной пирамиды, покрытой мхом, Эгидасу остановил машину, спрыгнул на землю, подошел к пирамиде, поманил меня.
— Запомни это место, Рубен, — границу твоей родины. Бискайя закончилась, и начинается провинция Бургос.
Ничего примечательного здесь не было: горы, обрывы, обнаженный камень да лоскутьями снег. Но инженер был настроен торжественно.
— Эта граница отмечена кровью басков, Рубен, на протяжении веков.
И тогда я увидел, что тучи здесь бережно касаются вершин, а глина осыпей имеет огненный оттенок.
Неприветливо встретила нас бургосская земля, высокие сугробы перегородили дорогу, и теперь мы больше тащили машину, чем ехали. К вечеру поднялась метель, да такая, каких не бывало у нас в Соморростро, и Эдигасу со злостью отшвырнул Заводную ручку. Он забрался в машину, захлопнул дверцу и сказал:
— Дальше не поедем. Тут нужен снегоочиститель, а «фордик» не сильнее старого мула.
Мена сказал:
— Не думал, что такая рискованная поездка.
Висенте светил карманным фонариком, смотрел на карту и рассуждал вслух:
— Что, собственно, случилось? Ничего особенного. Бывает и похуже. Представьте, что в такой тьме мы свалились бы в овраг. Врача тут и за неделю не разыщешь. Да, это было бы худо. Но, по моим расчетам, где-то здесь должна быть дорожная сторожка. Бросим нашу «карету» и пойдем искать приюта.
Мне очень нравилось, что эти люди нисколько не терялись, в самой опасности они находили забавное. А когда мы вышли из машины и, держась за руки, побрели по колени в сугробах в ночь, я стал понимать, что приключение не такая уж завидная удача.
Часа через два, окончательно замерзшие, мы набрели наконец-то на домик у дороги, маленький, темный и глухой.
— Если кто-то здесь и обитает, так только духи, — сказал Висенте. — Им не нужно ни транспорта, ни электричества, ни газет.
Он постучал, но никто не ответил. Мы ждали, прижимаясь друг к другу. Робкий женский голос из-за двери спросил:
— Кто?
— Свои. Дорожный инженер, — откликнулся Висенте.
Женщина распахнула двери, из прихожей упал на нас свет лампы. Наверное, мы выглядели страшно: хозяйка вскрикнула и тотчас захлопнула дверь.
— Духи бывают добрые и злые, — усмехнулся Висенте. — Кажется, мы наскочили на вторых.
Он постучал громче и спросил:
— Неужели вы заставите нас тут замерзнуть насмерть? Это, знаете, странно, чтобы своему начальнику, инженеру, не открыть.
Теперь отозвался мужской голос:
— Мы бы открыли, да боимся.
Объяснение через дверь продолжалось долго, и, когда нас все-таки впустили в домик, я не чувствовал ни рук, ни ног.
Хозяин был мрачен, космат, нелюдим, настоящий отшельник. Хозяйка сгорбленная, тщедушная. В комнате вместо стола — ящик, табурет, койка да на стене деревянное распятие. На полочке под распятием горела плошка, и поджатые ноги Иисуса были основательно закопчены.
Эгидасу осмотрелся вокруг и засмеялся:
— Вы боитесь грабителей? Интересно, чем бы они могли здесь поживиться? .
Хозяин все осматривал его с головы до ног, и Эгидасу понял:
— Не беспокойтесь, у нас нет оружия.
Сторож облегченно вздохнул, перекрестился, предложил присесть на койку.
— Грабить у нас нечего. Только они не считаются. Дом сожгут и по миру пустят.
— Кто это они?
Хозяин наклонился, борода его встала торчком, он прошептал с опаской:
— Коммунисты...
Эгидасу и мать переглянулись. Мена тихонько свистнул, а Висенте громко захохотал.
— Кто вам такое рассказывал?.. — мягко спросила мать. — Вы когда-нибудь встречали коммуниста?
В разговор шумно вмешалась хозяйка, затрясла нечесаной головой, испуганно замахала руками:
— Зачем ему видеть их? Чтобы потом по ночам не спать? Вчера проезжал священник, он и не такое порассказал...
— Ясно, — сказала мать, — но все же интересно: если бы вы встретили коммуниста, узнали бы его?
Хозяин насторожился, чувствуя подвох, и сказал решительно:
— Узнал бы. Наверняка. Они обязательно лоб прикрывают фуражкой или волосами. У них на лбах печать, черная, с тремя углами.
Мать сняла платок, отбросила со лба седую от инея прядь.
— Смотрите. Где же печать? А ведь я коммунистка.
Хозяйка тихонько вскрикнула и попятилась в угол, а сторож поднял руку, чтобы перекреститься, неловко оступился и тяжело сел на табурет.
— Коммунистка?
Мать улыбнулась:
— Самая настоящая. Убежденная. И видите, нет на мне печати, а в сердце к вашей бедной семье только добро.
Косматый и несуразный хозяин уставился на жену, потом на меня, на Эгидасу, и трудно было понять: испуган он или до крайности изумлен. Инженер сказал:
— Разрешите, хозяин, коммунистке и ее сыну остаться в вашем доме до утра. Мы попытаемся пешком добраться до Лермы, разыщем машину и приедем за ними.
Тот ничего не ответил, а Эгидасу принял молчание за знак согласия, и трое наших спутников ушли. Мать принялась было готовить мне на каком-то ящике постель, но я сказал, что спать не буду, и мы долго сидели молча, слушая, как воет метель.
Хозяин резко поднялся, проверил на двери засов, стал у порога, и маленькие прищуренные глаза его недобро блеснули. Я заметил: хозяйка торопливо перекрестилась.
— Зачем вы обманываете меня? — спросил он грозно.
— Вас обманываю? Не собиралась.
— Вы не коммунистка.
— Я сказала вам правду.
Он яростно перевел дыхание.
— И вы не боитесь?
— Кого?
— Всех. И меня.
— В трудную минуту я буду у таких, как вы, искать защиты. Какой-то обманщик в рясе наговорил вам пустяков. Но со временем вы поймете, что мы, коммунисты, самые надежные ваши товарищи. Нас ведь и преследуют за то, что мы защищаем простой народ. Как вы живете? Это берлога, а не жилье. Вас живыми зарыли в эту яму, обобрали до нитки, обманывают и унижают, а вы все не можете разобраться, где ваши друзья, а где враги?
Что меня поразило — перемена в хозяине. Слова матери будто его толкали, он сгорбился и притих.
Женщина всхлипнула.
— Верно, что обобрали до нитки.
Хозяин злобно глянул на нее.
— Цыц...
Он медленно добрался до табурета — какая-то невидимая тяжесть давила его сутулые плечи, сел, наклонился, закрыл руками лицо. Сквозь пальцы торчали клочья бороды.
— За каждого пойманного коммуниста, прохрипел он, — обещаны наградные. Слышите? За живого и за мертвого. Нет, вы не пугайтесь, я не торгую людьми.
— Я понимаю, — сказала мать, — вы хотите предупредить меня, правда?
За окном загудел мотор, и мы услыхали веселый голос Висенте:
— Полный порядок! Ну-ка, затворники, открывайте!
Теперь хозяин испугался. Я наблюдал за ним: он не скрывал страха, не мог скрыть. Руки его тряслись, он долго возился с задвижкой и, когда отодвинул ее, отбежал в угол.
Эгидасу был крепок, радостен, силен, и шапка его, покрытая ледяной коркой, блестела, как серебряный шлем. От его голоса в плошке заплясало пламя.
Случайно машину встретили — «фордика» уже взяли на буксир, шофер оказался отличным парнем и, значит, с удачей!
Взглянув на хозяина, Эгидасу что-то понял и спросил меня:
— Как же вы развлекались? Наверное, дедушка рассказал тебе сказку?
— Да, про печать, которая у коммуниста на лбу.
— Они добрые люди, — сказала мать. Она подошла к сторожу и подала ему руку.
Он робко взял руку матери, чем-то до крайности пораженный.
— Простите...
— Мы расстаемся друзьями, — тихо проговорила мать.
Эгидасу положил на ящик несколько монет.
Когда мы садились в «фордик», взятый на буксир грузовиком, Эгидасу поспорил с Меной.
— Держу пари, что этот пустынник — шпик.
— За кем же он здесь наблюдает? — усмехнулся Мена. — За воронами?
Инженер злился на всех: на свою бездыханную машину, на непогоду, на ночь, на сторожа.
— Спроси у водителя грузовика, он говорит, что полиция расставила в будках шпиков. Они наблюдают за всеми проезжими, подслушивают, записывают номера машин.
— Этот не записал...
— Он еще не потерян, — сказала мать. — Если бы с ним поработать...
Эгидасу махнул рукой:
— Ты не знаешь, им обещаны наградные.
— Знаю, он сам сказал.
Эгидасу не поверил:
— Ты шутишь?
— Нет, он не потерян, — уверенно повторила мать. — Не удивляйся, мне кажется, что-то произошло в его душе в эту ночь. Быть может, лишь смутные вопросы возникли, но и это уже много.
Мне запомнилась дорога на Лерму, мороз и глушь, космы поземки над сугробами, темный домик в долине, на самом дне ночи, а у домика человек, яростный, всполошенный и жалкий. Позже я вспоминал его, как он стоял раздетый на низком крылечке и ветер трепал его длинную рубаху. Свет фар осветил его на миг, и мне показалось: он колебался — вернуться в дом или бежать за нами.
Позже мы встретились в Мадриде. В один из дней осады города коренастый, седеющий солдат встал передо мной на тротуаре, что-то изумленно пробормотал, потом стиснул за плечи, долго тряс руку, вздыхал и смеялся.
— Вспомни дорогу на Бургос! Ты был с матерью, и еще три человека...
Какие-то черточки лица мне показались знакомыми.
— Помню... а что?
Он еще больше обрадовался:
— Да ведь это я вас в сторожке принимал!
Конечно, я не мог поверить:
— Ну, извините. В сторожке обитал какой-то мрачный дед...
Он горестно вздохнул:
— Было такое. Но деда не стало: бороду под ножницы и — р-раз! Сейчас я старший по возрасту боец в отряде республики «Железо», а входим мы в знаменитый Пятый полк.
Мы долго сидели с ним на скверике, и целая жизнь прошла передо мной, трудная и темная, и, пока он говорил, я слышал и другой, с детства знакомый голос:
«Нет, он не потерян...» Я и сейчас уверен, что его дорога в республику началась в ту ночь.
А в Мадриде, огромном и зеленом, еще одно приключение: оказалось, что у нас нет квартиры. Я шел по улице, смотрел на роскошные дворцы и не мог понять, как же хозяева умудрялись жить во всех комнатах такой громадины, если комнат в ней тридцать или пятьдесят, а то и больше?
Спутники простились с нами и разошлись в разные стороны, а мы стояли на площади Магдалены, и я спросил у матери:
— Где мы будем жить?
Она устало положила мне на плечо руку и сказала просто:
— Не знаю.
— Но разве Эгидасу, Висенте или Мена не могли пригласить нас к себе?
— Нет, они сами приезжие, — ответила мать. — У них достаточно своих забот, и я не хотела, чтобы и здесь они нам помогали.
Все же я допытывался:
и она лишь умеет казаться спокойной.
— Конечно, есть друзья, и много, — смущенно сказала она. — Но просить о чем-нибудь для себя лично... Разве мы сами беспомощны, Рубен?
Я стал уверять ее, что на площади мне даже весело: столько машин, сигналов, огней, витрин... Площадь все время движется и плещет, как река, и есть, наверное, здесь люди, которые только то и делают, что ходят и смотрят на других. Мы тоже, пожалуй, приметные, видно, что из шахтеров. Вон какой-то господин в котелке стоит на тротуаре и долго внимательно наблюдает за нами. Я указал на него матери, и он это заметил, приблизился мелкими шажками, извинился, приподнял котелок:
— Если сеньора приезжая и нуждается в квартире в приличной семье...
Как здорово! Я был готов заплясать на асфальте.
И откуда он появился, этот толстенький дяденька с усиками, как запятые?
Через десять минут мы спустились в подвал, и навстречу нам важно выплыла вся в черном, хозяйка квартиры. Смиренно, как это делают монашки, она сложила руки и пропищала тоненьким голоском:
— Бог послал нам гостей? Можете быть уверены, дорогая, что вы попали в очень порядочную семью.
Комнатушка, показанная нам, была темная и тесная, но мы так измучились в дороге, что были рады и этому чулану. Мать уплатила за две недели вперед, и мы устроились отдыхать. Хозяева еще долго шептались о чем-то, а в полночь сеньора Алисия (так звали хозяйку) постучалась к нам.
— Извините, уважаемая, — пропел тоненький голосок, — я принесла вам распятие Христово, чтобы вы могли сотворить вечернюю и утреннюю молитвы.
— Не будем утруждать Христа в столь поздний час, — ответила ей мать. Спокойной ночи.
ЧЕРНАЯ МАШИНА
С рассветом меня разбудило пение: два голоса тянули что-то заунывное и бесконечное. Я тихонько встал с постели и выглянул за дверь. Они стояли на коленях рядом, толстенький хозяин и его черная, чопорная супруга, смотрели в молитвенники и тянули псалом. Лица у них были скучные, позы унылые и голоса фальшивили. Вдобавок хозяина беспокоила муха, он сначала отмахивался молитвенником, а потом быстро извернулся и ловко ее словил. Я засмеялся, мне очень понравилось, как он расправился с мухой, не прерывая псалма.
Странно, что они услышали мой смех, разом обернулись и замерли с открытыми ртами. Псалом оборвался, и я прикрыл дверь.
Случай пустяковый, и мог ли я думать, что это мальчишеское любопытство может обойтись мне дорого?
Хозяева пригласили нас выпить кофе, на столе даже оказалось печенье, и за время завтрака сеньора Алисия успела перечислить, не скрывая презрения, всех соседей. Наклонясь к матери, она шепотом сообщила ей, что в доме почти все безбожники и коммунисты, а потом удивленно посмотрела на меня: похоже, она ожидала, что я испугаюсь.
Господин Асеведо во всем поддакивал жене, подсовывал ей сахар, торопливо подливал кофе, было заметно, что он боялся ее.
Мать почти все время молчала, а сеньора Алисия, наговорившись вдоволь, осторожно спросила: кто мы и откуда? Впрочем, тут же она ответила сама:
— Я догадалась, что вы приехали хлопотать о наследстве. Из провинции часто приезжают по этим делам. Если желаете, я порекомендую вам адвоката.
Мать улыбнулась:
— Не нужно. Какое наследство у шахтеров?
Можно было подумать, что хозяйка подавилась печеньем.
— Вы... шахтеры? Бог мой!
Она взглянула на мужа так, словно хотела бы его задушить, и принялась убирать лишнюю посуду.
Мы шли с мамой по городу и смеялись. Я никогда не думал, что слово «шахтер» может так ошарашить человека. У нас в Соморростро оно звучало важно и весомо. Что ж эти двое за чудаки: печь топят, углем, а при слове «шахтер» пугаются?
На красивой табличке я прочитал: редакция газеты «Мун до Обреро». Вот куда мы шли! Здесь, в неказистом доме рождалась та газета, которую еще в недавние времена дедушка Марио раздавал из-под полы, а шахтеры жадно тянули за ней руки.
Что меня особенно удивило, ни один человек не спросил нар, кто мы и зачем пришли. Кудрявый, парень весело поздоровался с матерью, пожал и мне руку и открыл дверь одной из комнат.
— Это ваши владения, шахтерская гвардия, — сказал он.
Я осмотрелся: в комнате был стол, два стула, на подоконнике цветок, на стене географическая карта. Больше ничего, ни одного лишнего предмета.
— Чем ты займешься? — спросила мать. — Я должна работать. Пойди-ка в музей, если хочешь, в кино. Давай, друг, оба заниматься полезным делом.
Все это было интересно — и кино и музей, но во дворе я заметил группу мальчишек с газетами в руках и пошел к ним.
Через минуту они окружили меня шумной стайкой, бойкие, задиристые. Кто-то надвинул мне на лоб шапку, а рыжий вихрастый забияка ущипнул. Я развернулся и влепил ему затрещину. Он отлетел на кучу мусора и сел, пораженный таким оборотом дела.
— Ну, деревня, сейчас будет бой!
— Не деревня, а шахта, — сказал я. — Давай один на один, остальные в сторону.
Рыжий встал, приблизился, веснушчатое лицо его дрожало и кривилось от злости, он цвиркнул сквозь зубы и спросил:
— Шахта? Что за шахта? Ладно, прежде чем я выбью из тебя спесь, разберемся. Откуда такой прилетел, выкладывай.
— Приехал с матерью из Бискайи, мама работает в редакции. Вот и все.
Ребята переглянулись, кто-то засмеялся:
— Ну и влетело тебе, Рыжик!
Но Рыжик нисколько не обиделся, он потрогал скулу, посмотрел на пальцы и грозно закричал на ребят:
— Ну, чего уставились? Может, хотели, чтобы мы сразу целоваться начали? Эх, лопухи!
Он положил мне на плечо руку, слегка повернул перед собой и чем-то остался доволен:
— Шахтеров уважаю. Будешь работать с нами?
— Что делать?
— «Мундо Обреро» распространять. Заметь, я не говорю: продавать газеты. Торговцы, те продают, а мы распространяем.
— Конечно, буду, — обрадовался я. — И вот что, извини меня. Вижу, ты хороший парень.
Рыжик смутился, шморгнул носом:
— Порядок.
Как оказалось, у Рыжика были свои кварталы, улицы, переулки, где другие газетчики из мальчишек и показаться не смели, но и сам он твердо знал границы своих владений, Веселый малый, он чувствовал себя в огромном городе, будто в собственной квартире, знал все подъезды, дворы и закоулки, и среди прохожих, наверно, сотни людей были его знакомые.
Сначала я робел — ну-ка, остановиться на тротуаре в толпе и закричать во весь голос: «Хочешь знать правду — читай «Мзгндо Обреро»!»
Но уже на следующее утро я перекрикивал самого Рыжика и даже помог распространить оставшуюся у него пачку. Он сказал одобрительно:
— Капитан доволен тобой.
— Кто такой капитан?
— Как, ты не знаешь Капитана? Это моя кличка. Рыжика выбрось: так зовут собак. Сейчас мы пойдем в типографию, там ты кое в чем разберешься.
В типографии, в полутемном подвале, молчаливый старик сунул нам в руки по метле и тряпке, что-то пробормотал и ушел. Мы принялись за уборку и работали до позднего вечера. А вечером старик возвратился, осмотрел подвал, потрепал Капитана по плечу и высыпал в ящик горсть монет.
— Молодцы, ребята. Заработали — получайте.
Капитан засмеялся, толкнул меня локтем:
— Смущаться, брат, нечего, отсчитывай любую половину. Газеты мы разносим бесплатно: это наш пролетарский долг, но товарищи выручают нас, подыскивают работу, чтобы мы на кусок хлеба имели, понял?
— Все понял, товарищ Капитан!
Когда, поздно возвратясь домой, я принес матери несколько монет, она удивилась и как будто испугалась.
— Откуда у тебя деньги?
— Честные. Заработанные.
— Где ты их заработал?
Я принялся мыть руки. Она ждала. А у меня на сердце были и тревога и радость: вдруг она огорчится, я ведь не спрашивал у нее разрешения.
— Давай, мама, ужинать, — сказал я. — Знаешь, работы сегодня было много. Вы пишете — мы распространяем. Мой друг Капитан говорит, что без нас, газетчиков, редакция как без рук. — Я вскочил и заорал: — Вот самая правдивая газета! Кто хочет знать правду — читайте «Мундо Обреро»!
Казалось, она не понимала, и я объяснил:
— Распространять газету — наш пролетарский долг. Но вечером мы убирали в типографии и заработали немного денег. Теперь я всегда буду зарабатывать, можешь тратить их смело.
Мать смотрела на меня, и губы ее дрожали. Она ничего не сказала, только смотрела, тоненькая прожилочка билась у ее виска.
Потом она встала, подошла ко мне и поцеловала в лоб.
Так началась моя жизнь в столице. Я не заметил, как пролетел месяц и начался второй. В нашем чулане я почти не бывал — переночую и опять в город. Теперь среди ребят-газетчиков у меня появилось добрых три десятка друзей, но Капитан оставался самым надежным. Как-то он сказал мне, что должен поговорить со мной об одном важном деле, и, когда я стал допытываться, что за секрет, он цвиркнул сквозь зубы и нахмурил брови:
— Жаль, годами ты маловат. Двенадцать? Ладно, подрастай, узнаешь.
Что ж, оставалось одно — ждать, и я решил быть терпеливым, хотя тайна Капитана теперь не давала мне покоя.
Тут приходится вспомнить о приличной и набожной семье, где мы жили.
После нашего первого разговора за утренним кофе, когда сеньора Алисия узнала, что мы шахтерского племени, и выскочила из-за стола, она почти неделю не замечала нас — смотрела и не видела.
Понятно, мы удивились, что после такого длительного молчания хозяйка вдруг встретила нас церемонным приседанием, улыбочкой нежным голоском:
— Ах, знаете, я так волнуюсь, если вы задерживаетесь в городе!.. Сегодня в суде слушалось одно страшное дело...
Мне было уже известно от соседки, что сеньора Алисия целые дни проводит в судебных заседаниях: когда-то ей посчастливилось отсудить наследство далекой родственницы, и с того времени она возлюбила правосудие.
Знал я теперь и о роде занятий господина Асеведо. Капитан лишь взглянул на него и выдал справку:
— Делец. Торгует фальшивками. Продает иностранцам разные подделки — старинные картины, иконы, монеты, кресты. Он, если бы мог, продал бы им весь Мадрид со всеми окрестностями.
Я удивился:
— Где он все это берет?
— Мальчик, — мягко сказал Капитан, — ты должен верить старшим. Я старше тебя на два года. Так вот, в городе есть люди, которые, если нужно, сделают бюст твоего прадедушки и уверят, что это он. Почему бы им не сделать два-три десятка корон или мечей какого-нибудь Карла или Филиппа?
Я вспомнил эту парочку правоверных католиков не случайно, позже мне довелось, как говорится, вкусить от их щедрот. Но почему сеньора Алисия стала вдруг такой добренькой и кроткой, я не мог понять. Мать не обратила внимания на эту разительную перемену: зачастую она просиживала за своими тетрадями, газетами, книгами всю ночь, и ей было не до хозяйки. А мне хотелось бы знать, отчего хозяйка так неожиданно и неузнаваемо изменилась.
Случилось, что в нарушение своего распорядка я забежал на квартиру днем, и сеньора Алисия чуть ли не заплясала от радости.
— Ах, славненький мальчик, ты такой запыленный! Хочешь, я тебя умою и накормлю?
Она меня умоет! От такой патоки меня могло бы стошнить. Где это видано, чтобы парня в двенадцать лет, да еще такого, что трудится и зарабатывает, умывали, как малютку? Я сказал, что могу умыться и сам, взял забытую впопыхах фуражку и направился к выходу, но хозяйка остановила меня:
— Возьми конфетку. Это дорогая, шоколадная. Знаешь, я так хотела бы помочь твоей матери.
Не скажи она этих слов, я уже был бы на улице.
В чем же она хотела бы помочь? Конфетку я не взял, но слушал. Она мечтательно закатила глаза:
— Теперь ваши дела пойдут успешно. Я видела твою маму с известным адвокатом, они шли по улице и разговаривали. Адвокатов я знаю наперечет...
— У мамы на работе много знакомых. Возможно, есть и такой...
Тут она взъерошила мне волосы, погрозила мизинцем:
— У, какой скрытный! Впрочем, умница — нужно хранить секреты. Я и сама, когда судилась за наследство, посторонним ни слова, ни-ни... Скоро вы станете богатыми и тогда...
— Что?
— Ты не забудешь, верно, что сеньора Алисия была для тебя как вторая мама, ведь правда, мой малыш?
Я выбежал из подвала. Вторая мама! Что за блажь? У меня даже мелькнуло опасение, что хозяйка, возможно, рехнулась от затяжных псалмов. Решив посоветоваться с Капитаном, я рассказал ему эту историю. Он выслушал и захохотал:
— Ой, держи меня, держи... Упаду!
Вдоволь нахохотавшись, он сказал:
— Ну и везет же тебе, друг-баск, в столице! Мне бы такую хозяйку, я зажил бы. Поверь, и совесть была бы спокойна. Хозяюшка твоя подозревает, что вы в недалеком будущем богачи. Она еще не дозналась, что твоя мать сотрудничает в «Мундо Обреро». Когда она увидела мать в обществе адвоката, смекнула, что вы от нее скрываете свой секрет... — Капитан опять захохотал. — Ну пройдоха!..
— Придется открыть ей глаза на правду. Верно, Капитан? Пускай не морочит голову ни себе, ни нам.
— Разве не лучше, если она с конфеткой, чем с кукишем?
В марте мать уехала на съезд в Севилью. Это был четвертый съезд коммунистов Испании, и проходил он совсем открыто. Когда в Соморростро к нам приходили шахтеры и приносили запретные книжки и листовки, они всегда старательно прятали их, постоянно опасаясь полиции. А теперь многое переменилось: я бегал по улицам с пачкой коммунистических газет.
Но распространять газету и не знать, хотя бы в общих чертах, что происходит в стране, даже для мальчишки было бы непростительно. Мы знали, что народ сверг кровопийцу диктатора Примо де Ривера, что рассыпался в прах королевский трон, что Испания стала республикой, а у власти находились республиканцы и социалисты. Но знали мы и другое: борьба продолжалась. В той же Севилье новые правители расстреляли молодых коммунистов. Они даже открыли огонь из пушек по дому, в котором собирались коммунисты. Значит, и новые правители стояли за буржуазию, а полиция, как и раньше, охраняла богачей и гонялась за рабочими.
И все же многое изменилось: коммунисты стали выступать открыто не потому, что новые правители вроде бы подобрели. Капитан объяснил мне, что воевать можно и без оружия и что это право — открыто собираться, говорить, печатать свою газету — коммунисты завоевали.
Мать уехала, и я остался один, но мне это было не впервые. Хозяйке она уплатила деньги, и та обещала готовить мне завтрак и ужин.
— О, вы так добры! — пропела сеньора Алисия и по привычке закатила глаза. — Здесь вполне достаточно, чтобы я готовила ему и обед.
Мать сказала, что обедать я буду в городе, в столовой, и что она расплачивается за услуги.
Сеньора Алисия подмигнула:
— Понимаю... Ваши дела идут хорошо?
— Отлично. — сказала мать. Она, конечно, думала о работе, о поездке в Севилью. — Да, очень хорошо!
Хозяйка набожно сложила на груди руки.
— Кто может измерить силу молитвы? Я молюсь за ваш успех.
Как-то перед вечером я пришел домой раньше обычного. Дверь квартиры оказалась закрытой, но у меня был ключ. В нашей комнатушке я застал сеньору Алисию. Стоя на коленях, она склонилась над нашим чемоданом и так увлеклась, что не сразу заметила меня.
— Что вы, хозяйка, ищете? Ир спросил я, растерявшись от неожиданности. — Вы что-то потеряли?
Она захлопнула крышку, выпрямилась, заломила руки.
— Моя любимая брошь... Она куда-то закатилась.
— Брошь могла закатиться... в чемодан?
Мне показалось, она извивается всем телом, черное платье ее тускло поблескивало, как чешуя змеи.
— Когда я отодвинула чемодан, он сам раскрылся. Выпали какие-то бумажки. Я положила их на место, а тут вошел ты. Кстати, сегодня ты возвратился рано, маленький, будешь ужинать?
Я отказался. Лег на койку и долго раздумывал над этим случаем. Конечно, брошка могла затеряться. И крышка чемодана могла открыться сама. Наконец, и тетради могли выпасть на пол. Что оставалось у меня для подозрений? Я так ничего и не мог придумать, закрыл чемодан на ключ и уснул.
А утром, когда снова вспомнилась эта история, в памяти всплыла еще одна подробность: торопливое движение рук хозяйки, с каким она что-то спрятала за вырезом платья на груди. Что она могла спрятать?
Сеньора Алисия появилась за столом очень веселая. Она взъерошила мне волосы и пропела:
— Брошка, мой маленький, нашлась! Представь, закатилась под ковер. Я так рада, так рада...
Через неделю мать возвратилась со съезда, веселая, словно помолодевшая, с уверенной улыбкой и тихим блеском в глазах.
— Ну, одиночка мой, — спросила она с порога, — как твоя бурная деятельность, продолжается?
— Все идет отлично, мам...
— Так и должно быть. Наши с тобой дела движутся в гору.
В этот вечер у нее было свободное время, и мы пошли в цирк. Наверно, она даже не представляла, какая для меня это радость, купить за свои деньги для нее билет. Я взял самые дорогие билеты, и мы сидели в первом ряду, и вот уж когда я вдоволь нахохотался, глядя на клоунов!
Я чувствовал себя счастливым. Если она сказала, что дела идут в гору, значит опасности, которые постоянно угрожали семье, уменьшились или отдалились. Какая же это благодать — жить, не думая что ночью ворвется полиция, вечером быть уверенным, что мать вернется с работы.
Такой благодати в Испании еще не бывало. Утром, когда мы шли в редакцию, я заметил в подъезде нашего хозяина, господина Асеведо, с каким-то человеком в военной форме. Они тоже заметили нас и быстро вышли на улицу.
В киоске у площади Магдалены я всегда покупал ириски и пил газированную воду. Не изменяя правилу, я подошел к знакомому торговцу, а матери сказал, что мигом ее догоню. Она стояла на углу, пережидая, пока пройдут машины. В длинной веренице машин мелькнула черная, тюремная. Мне показалось, она остановилась. Я не стал за нею наблюдать: мало ли в Мадриде таких тюремных будок? Но там, на углу, почему-то образовалась толпа. Я расплатился и вышел на угол. Машина тронулась, рослый жандарм догнал ее на ходу, вскочил и захлопнул дверцу.
Толпа возбужденно гудела, какая-то женщина громко жаловалась:
— Что же получается? И на улицу выйти опасно. Людей прямо на площади хватают.
Дряхлый старичок грозил кому-то палкой:
— Если воровка — так ей и надо!
— Какая там воровка, — обронил сквозь зубы рослый парень. — Политическая. Коммунистка... Господа республиканцы только играют в республику.
Матери в толпе не было. Я сразу понял: схватили ее. В толпе я увидел господина Асеведо и того, военного. Я подбежал к ним.
— Кого-то арестовали?
Господин Асеведо поправил котелок и вытер платочком руки.
— Тебе виднее — кого.
Казалось, он не узнал меня. Лицо у него было серое, губы презрительно поджаты, во взгляде скука и равнодушие, как при пенни молитв.
Я бросился через площадь за черной машиной. Едва не попал под грузовик, но успел отскочить в сторону, полицейский свисток заливался, а я все бежал... Воздух сделался твердым и застревал в легких, а деревья бульвара взмахивали ветками и летели.
Какие-то люди подняли меня посреди улицы, отвели на бульвар, положили на газон. Скрипучий женский голос уверял, что я воришка, схватил в магазине булку и убежал. Другой, спокойный голос произнес: «Значит, мальчик голоден. Нужно иметь сердце». Мне было все равно, пусть говорят что угодно. И не хотелосъ бы подниматься с травы, мягкой и шелковой, такой, как у нас в долине под Соморростро.
Лишь в конце дня я разыскал Капитана. Колючий и злой, он сразу же накинулся с упреками:
— Где ты пропадаешь? Нужно выбегать половину города, чтобы тебя найти! Почему ты не взял газет?
— Мне сейчас не до газет, Капитан. Мать схватили на площади и отвезли в тюрьму.
Он презрительно покривился:
— А если бы тебя арестовали? Значит, твоя мама бросила бы и редакцию и товарищей?
— Нет, она не бросила бы ни за что.
— Странный ты человек, друг-баск, — мягко заговорил Капитан, и мы отошли с тротуара в какое-то парадное. — Но подумай, будто я каменный и мне чуждо твое горе. Это ведь мой район, и площадь Магдалены у меня — главная. Я узнал, что твоя мамаша арестована через пять минут после того, как это случилось. Первое, что надо было выяснить, — куда ее отвезли? Я выяснил: в женскую тюрьму Киньонес, к монашкам. Не удивляйся, там надзирательницы — монашки, злые, как демоны, а дразнят их «черными крысами».
Он схватил меня за руку.
— Постой, куда ты?
— Я иду к женской тюрьме.
Веснушки на лбу Капитана сбежались к переносице.
— Уже вечер, и сегодня ты ее не увидишь. Правда, и завтра не увидишь. По если идти, так только с утра, когда будет начальник сеньор Луис Гусман.
— Ты даже знаешь, как зовут начальника?
— Это небольшое счастье — знать такую холеру, — сказал Капитан и сплюнул. — Я ему от всей души пожелал бы тысячу болячек, чтобы и живого места у него не было.
— Так что же мне делать, Капитан?
Он крепко сжал мою руку повыше локтя.
— Дай слово чести.
— А зачем?
— Давай, не тяни время.
— Даю слово чести, — сказал я.
Капитан недовольно тряхнул головой.
— Этого мало. Скажи: даю слово чести, что буду молчать, даже если меня станут пытать огнем и железом.
— Кто станет пытать, за что?
— Не твое дело, повторяй.
— Нет, я хотел бы знать...
Капитан окончательно рассердился, даже рыжий его хохолок встал торчком. Он наклонился и жарко задышал мне в лицо:
— Кто твои враги? Ясно, богачи. У богачей есть лакеи — нынешние правители. У правителей тоже есть лакеи — всякие там гусманы. Если ты попадешься, будут пытать.
Я повторил клятву слово в слово, и Капитан, немного подумав, сказал:
— Годится. Теперь слушай. В нашей газете цензура главное вычеркивает: призывы к действию. Ночью мы будем расклеивать листовки. Опасные. Против гусманов. А в случае попадемся — тюрьма.
В другое время я, пожалуй, обнял бы Капитана за такое доверие. Но сейчас мысли мои были у женской тюрьмы, и у меня складывался план: чуть свет явиться к Гусману, встретить его еще на улице и просить, просить...
Условившись с Капитаном увидеться в десять часов, я не удержался, сказал ему о своем плане. Он с грустью посмотрел на меня.
— Глупый! Кого просить? Камень? Да и камень скорее отзовется, чем такой гнус...
И все же у меня оставалась капелька надежды. Наверно, так всегда бывает: капелька надежды всегда живет.
МОЛОТ И РЕШЕТКА
Домой я вернулся совсем разбитый, хозяева как раз ужинали и, казалось, не заметили меня. Я стал раздеваться в своей комнатушке, решив немного отдохнуть. Не приглашают на ужин — не надо, хотя мать вперед заплатила им за это. Не успел я лечь на койку, хозяин резко окликнул меня:
— Эй ты, бродяжка, ступай-ка сюда, живо! Набросив куртку, я подошел к столу. Сеньора Алисия неподвижно сидела за своей тарелкой. Она напряженно смотрела в одну точку, а блестки ее черного платья скользили и переливались. Хозяин обгладывал кость, и жир покрывал его круглые щеки, запятые-усики, блестел на кончике тонкого носа, капал с губ. Он хотел что-то сказать, но не мог оторваться от кости, грозно выкатывал глаза и мотал головой.
— Ах, боже мой! — не вытерпела сеньора Алисия. — Когда же ты, наконец, наешься!
Она застучала сухонькой ручкой по столу, вскинула голову, небрежно взглянула на меня и пропела с усмешкой:
— Ты, конечно, знаешь, где твоя нежная мамочка?
— Знаю.
Бледное лицо ее перекосилось, мелкие кудряшки затряслись.
— Обрати на него внимание, милый! — истерически взвизгнула она. — Он знает! Да, знает, и ему хоть бы что! Я говорила тебе, что это испорченные люди, а ты привел их в мой дом!
Хозяин расправился с костью, вытерся полотенцем, поманил меня пальцем. Я не тронулся с места.
— Похоже, ты даже рад, что такое случилось? — шепотом спросил он, откинул голову и засмеялся. — Право, он рад! Ну, что за сыночек... Чудовище!
Никто не мог бы обидеть меня больнее. Я возненавидел его с этой минуты. В глазах у меня потемнело, а сердце трепыхалось у самого горла; мелькнула отчаянная мысль — рвануть со стола скатерть, чтобы вдребезги разлетелись все их тарелки, тарелочки, чашечки, стекляшки, чтобы их притворные удивления и гнев стали настоящими.
Сеньор Асеведо насторожился:
— Это что такое? Ты смотришь на меня, как волчонок. Где твоя почтительность к старшим?
Я понял: он позвал меня, чтобы поиздеваться.
— Вы что-то хотели сказать мне, сеньор Асеведо?
Он покрутил кончики усов, прищурился.
— Итак, ты все знаешь. Твоя мамаша заговорщица и находится гам, где ей и положено быть. Если бы мы не были порядочными людьми, мы сейчас уже выбросили бы тебя на улицу.
— Не нужно выбрасывать, сеньор Асеведо. Я и сам уйду. Возьму чемодан...
Хозяйка всплеснула руками, подбежала к двери нашего чулана, повернула ключ:
— Подумать, он возьмет чемодан!
— Ты не возьмешь чемодана, — твердо произнес сеньор Асеведо, и на круглых его щеках стали проступать пятна. — Твоя рассеянная мамочка не уплатила нам сполна.
Он лгал, бесстыдно смотрел на меня тусклыми глазами и лгал, пожилой человек с холеным лицом, на котором наклейкой торчали усики. Лишь только вчера, при мне, за этим столом он пересчитывал деньги, уплаченные матерью за две недели вперед. Возможно, он вспомнил, что я видел это, поморщился и сказал небрежно:
— Впрочем, нам ваши жалкие тряпки не нужны. Чемодан возьмет полиция. Она меня уже предупредила.
— Зачем он полиции? В нем только мои рубашки.
Хозяин хотел схватить меня за ухо, но я увернулся.
— Ты врешь, маленький мерзавец, там не только рубашки! А книжки, а бумаги? Что, ты не знаешь? Нет, ты отлично знаешь, маленький бандит!
Вот оно что! Он проговорился. Значит, сеньора Алисия не случайно тогда склонилась над нашим чемоданом. И тут же я вспомнил, как Асеведо стоял с военным во дворе, а заметив нас, они быстро укрылись в подъезде. Случайно ли он оказался и на углу площади Магдалены, у тюремной машины в толпе?
Как видно, они подумали, что я окончательно растерялся, сеньора Алисия подала мужу трость.
— Мальчика нужно воспитывать, — пропела она нежно и, скользя вокруг стола, больно ущипнула меня повыше локтя.
Я не вскрикнул, даже не обернулся. Впервые в жизни я ненавидел так сильно, и мне самому было странно, что можно так сильно ненавидеть.
— Вы рылись, как воры, в нашем чемодане, — сказал я. И вы донесли на мать. Я ненавижу вас. Да, ненавижу.
— Зови полицию! — вскрикнула хозяйка и заметалась по комнате. — Это исчадие ада, он может убить!
Почему-то именно сейчас мне вспомнился дедушка Марио и его простые, удивительные слова. У меня и мысли не было угрожать хозяевам, пугать их, но я повторил эти слова, наверно, потому, что они были моей незримой опорой:
— Ничего. Я не один...
И странное дело, хозяева притихли. Сеньор Асеведо вздрогнул и поежился, будто его кто-то хлестнул исподтишка. Хозяйка очутилась в дальнем углу и пропищала испуганно:
— Бог мой... у него шайка! Кого же ты привел в мой дом?!
Чем она могла бы закончиться, эта история, не знаю. Раздался негромкий стук в окно, и через открытую форточку донесся голос Капитана:
— Эй, Рубен, ты опаздываешь, выходи!
Я медленно подошел к двери нашей комнатушки, повернул ключ, взял фуражку. Теперь мне почему-то казалось очень важным не торопиться, не побежать. Фуражку я надел перед их зеркалом, хотя не заметил в нем себя, и вышел в коридор. Здесь я еще повозился с задвижкой, пока ее открыл. Позади осталась тишина, а в коридоре пахло мышами.
Мы долго шли к окраине города, и там, где начинается Гвадалахарское шоссе, свернули в какой-то темный переулок. Капитан, оглянувшись, быстро пролез в окно недостроенного дома. Я проскользнул за ним. Он никогда не расставался с электрическим фонариком, и теперь этот фонарик пригодился. Следуя за пятнышком света, я перебрался через простенок, и, когда приготовился спрыгнуть на кучу щебня, чьи-то сильные руки подхватили меня и легонько опустили на мягкую землю.
Приглушенный мужской голос спросил:
— Значит, вдвоем, Капитан?
— Да, про этого паренька я докладывал, — сказал Капитан. — Это Рубен.
Невидимый собеседник шумно вздохнул:
— Ну, если ты ручаешься...
— Ручаюсь,— как эхо повторил Капитан. Он взял меня за локоть, и мы присели на кучу стружек.
Рядом со мной что-то зашевелилось, я протянул руку и нащупал чей-то ботинок.
— Тут кто-то еще есть?
— Вас пятеро, — сказал незнакомец, а Капитан опять посветил фонариком, и в мутном его луче я увидел трех ребят, сидевших тесной кучкой. — Пятеро — большая сила. Листовок — пятьсот штук. Значит, на каждого по сотне. Но вы, ребята, должны знать, о чем идет речь. За последние двое суток по приказу правительства арестовано много коммунистов. Их избивают и морят в карцерах. Весь народ Мадрида должен узнать об этом. Господа республиканцы и социалисты на словах стоят за свободу, а на деле расчищают фашистам дорогу к власти. Это правительство куплено капиталистами, буржуазией, и нужно разоблачать каждый его бесчестный шаг. Ясно?
Он замолчал, видимо ожидая ответа, но и ребята молчали. Где-то высоко под стропилами зашептался, завозился ветер, а мне казалось — кто-то в темноте то ли тихонько смеется, то ли всхлипывает.
— Я хочу знать, что ты скажешь, Рубен, — шепотом спросил незнакомец. — Ты у нас новенький. Все понял?
— Утром арестовали мать Рубена, — шепнул Капитан. — Она работала в «Мундо Обреро». Газета снова запрещена.
— Вот как! — задумчиво произнес незнакомец, придвинулся ко мне, нащупал мою руку. — О газете я знаю, но об аресте не слышал. Да, малыш... Значит, у тебя горе.
У него была сильная, крепкая рука. Голос стал прерывистым и строгим:
— Забудь, что это листовки. Ты видел когда-нибудь тюрьму? Сплошная кирпичная стена, глухой, с маленькими окошечками домина, а на окошечках решетки. За одной из таких решеток и твоя мать. Была бы у тебя силенка да огромный молот в руках, ты бы эти решетки р-раз — и вдребезги! Есть ли она, такая силенка? Погоди, не удивляйся, есть. Общая она у нас: и твоя, и моя, и вот, Капитана, ты ведь не один... А вместе мы силища! И молот, братишка, есть. Вот он, держи, только забудь, что это листовки, так и думай — молот!
Кто-то из ребят заметил рассудительно, стараясь поддержать меня:
— Он поначалу не понимает, потом поймет.
Ребята-газетчики — развитой народ. Я находился в их компании третий месяц и, конечно, многое успел перенять, а главное — чуткость к событиям, к тому, что называют пульсом времени. Попроси сотрудника газеты, чтобы в двух-трех словах рассказал содержание всего выпуска, пожалуй, не сумеет. А маленькие газетчики должны суметь и должны выхватить из газеты такое, чтобы ее обязательно покупали, чтобы публика брала газету нарасхват. Это нелегко. Маленький газетчик сам находит острие новости, «гвоздь», но никто не платит ему гонорара.
— Вы объясняете мне, как маленькому, — сказал я незнакомцу. — Давайте листовки.
Почему-то он развеселился.
Люблю серьезных, деловых люден, малыш…
— Ну, если так, утром потрудитесь пройтись по городу. По самому центру, Пуэрта дель Соль, по улице Алькала, побывайте на площади Кортесов, на бульварах Прадо, Реколетто, Кастеллаиа... Вы увидите нашу работу.
— Вы слышите, ребята? — серьезно спросил незнакомец, зашелестел 6умагой и разорвал шпагат. — Это говорит мужчина. Держи свою пачку, орел!
Через несколько минут мы простились, я так и не увидел его лица. Шагая рядом со мной по безлюдной улице, Капитан спросил с интересом:
— А ты и вправду не боишься?
— Чего там... Он, понимаешь ли, насчет молота правильно сказал. Насчет молота и решетки.
— Ну, тогда не боишься, — облегченно вздохнул Капитан. — Тогда мы, друг-баск, натворим чудес!
Я подумал о матери. Она, конечно, была уверена, что в этот поздний час я спал. Если бы она могла увидеть меня хотя бы на минутку именно сейчас. Но, возможно, есть чувство, для которого не существует преград. Странное и сложное это чувство: человек далеко от тебя, за тюремной оградой, за десятью замками, и ты хорошо знаешь, что он далеко, но все время, все время он идет рядом с тобой и его присутствие почти ощутимо.
План действий у Капитана был разработан заранее: у начала улицы Алькала он затащил меня в темный двор, пошел к пристройкам и уверенно открыл дверь сарайчика.
Я ждал во дворе, но его долго не было, а потом оказалось, что известной ему обходной лазейкой он выбрался к подъезду и терпеливо ждал меня.
— Э, братец, — сказал он насмешливо, — за это время я успел бы взобраться на крышу и прыгнуть тебе на плечи. С этой минуты смотри в оба и не лови ворон.
Я немного обиделся за такую шутку:
— Ты можешь опять исчезнуть?
— В случае опасности — да, — ответил Капитан. — Если придется бежать, не вздумай искать меня или дожидаться. Старайся скрыться сам, а я тебя и под землей отыщу.
В руке он держал большую корзину, с какими в ночное время по улицам бродят сборщики утиля.
— Итак, мы с тобой чистильщики города, собираем обрывки афиш, газеты, бутылки, консервные банки, тряпки. При встрече с ночным патрулем ни в коем случае не удирать: спокойно занимайся своим делом. Ну, если вздумают придираться или обыскивать, тогда уж давай стрекача.
Мне понравилась его уловка: корзина как пропуск по ночному городу. На первом же перекрестке мы почти доверху набили ее обрывками афиш. Полицейский прогуливался неподалеку. Нас он, казалось, и не заметил... Я достал пузырек с клеем, и листовка аккуратно легла на тумбу.
Все шло как нельзя лучше, мы работали быстро и четко, не забывая и об утиле: заметив на газоне бульвара бутылку, мы бросались к ней наперегонки, и наша добыча все пополнялась, а пачки листовок, спрятанные под рубашками, заметно таяли.
Здесь, на бульваре Прадо, у одной афишной тумбы Капитан замешкался: он слишком долго расправлял и разглаживал листовку и не заметил, что на скамье, в тени каштана, дремал какой-то человек. Свет фонаря был резкий, сильный, и толстый ствол каштана бросал густую тень.
— Тряпок больше нет, — сказал я Капитану: это был наш условный сигнал об опасности.
Он резко повернулся, закрыв листовку спиной. Человек пошевелился:
— Подойдите ко мне, сорванцы.
Я невольно попятился, а Капитан, поколебавшись две-три секунды, неторопливо приблизился к скамье.
— Я слушаю вас, сеньор.
Незнакомец не пригласил — приказал:
— Садись здесь, рядом.
— Благодарю, сеньор, — сказал Капитан. — Я постою...
Человек выдвинулся из тени и засмеялся. Тут было чему удивиться: Капитан бросился к незнакомцу и повис у него на шее.
— Фернандо... Ну, мог ли я ожидать?
Незнакомец засмеялся.
— Вот и хорошо, что неожиданно.
Голос его изменился, словно бы стал моложе, и теперь я тоже узнал этого человека.
— Не бойся, Рубен, садись, — молвил он приветливо. — Да ты, приятель, ростом вымахал, но тоненький, как тростинка. Теперь уже будем знакомы, Фернандо. — Он пожал мне руку. — Не подумайте, будто я не доверяю вам и потому решил проверить. Нет, случайно заметил двух старьевщиков — с корзиной вы это разумно сообразили. Видел, как за бутылкой мчались, артисты. В общем, молодцы, но...
Капитан досадливо нахмурил брови.
— Но как же я тебя прозевал!
— Значит, излишне увлекаешься, а это, брат, не годится, — строго сказал Фернандо. — Вы должны все время оберегать друг друга. Пока ты работаешь, Капитан, Рубен — твои уши и глаза. — Он потрепал меня по руке. — Не забудь хорошенько вымыть руки. К тебе можно приклеиться. И это улика. Сколько осталось листовок?
— Заканчиваем первую сотню, — ответил Капитан.
— Отлично, молодцы. Времени до утра у вас достаточно. В конце бульвара двое полицейских. Они чем-то озабочены. Возможно, листовки замечены. Значит, переходите в другой район.
Мы еще раз простились и едва свернули на узкую, тихую улицу на площади залился полицейский свисток.
Капитан встревожился.
— Пожалуй, Фернандо прав, листовки замечены, и может начаться облава.
Город он действительно знал как свою ладонь и легко находил такие проходы и закоулки, что за нами вряд ли угнались бы даже служебные овчарки. Рабочие окраины Мадрида у нас называют «терновым венком столицы». Мы пересекли железнодорожную насыпь и очутились среди таких мазанок и халуп, каких и в шахтерских поселках Бискайи немало. Здесь Капитан действовал смело и даже вступил в разговор со случайным прохожим, который подождал, пока он наклеил листовку, прочитал ее и сказал:
— Одобряю. Подписываюсь. Угощаю сигаретами.
Прохожий указал на дальний, сравнительно высокий дом и посоветовал:
— Обязательно наклейте на двери и на калитку. Там всегда толпится народ, и, значит, многие прочтут.
Мы так и сделали; я не пожалел клея — листовки надежно легли на железные ворота и на прочные дубовые двери. И лишь когда мы закончили клеить, я заметил маленькую черную вывеску «Полиция».
Время близилось к рассвету, когда в районе пригородного вокзала мы, наконец, закончили нашу беспокойную работу. Последние две листовки легли на пассажирский вагон. У паровозного тендера мы тщательно вымыли руки, вытерли паклей ботинки, навели лоск мазутом из колесных масленок, старательно привели себя в порядок. Пузырек я утопил в канаве, и оставалось решить, как быть с корзиной. Бросить не жалко, ценность небольшая, но она еще могла бы нам пригодиться... Мы стояли у вагона и совещались, а тем временем трое жандармов, прячась за вагоном, за тендером, окружали нас. Мы одновременно расслышали хруст щебня, и я заметил, как из-за ближнего вагона показалась и тотчас скрылась фуражка с околышем.
Капитан тоже что-то заметил и шепнул:
— Тряпок больше нет...
Он подхватил корзину, уцепился за ручку тендера, взлетел на подножку, перешагнул на буфера. Я последовал за ним, но зацепился за подножку, оглянулся и увидел рослого жандарма, он держал меня за носок ботинка. Вырваться в таком положении не составляло труда, и, наверно, он заметил, что ботинок в мазуте. Ругнувшись, он хотел схватить меня за штанину, но не успел, я очутился на тендере, на ворохе угля.
Из паровозной будки выглянул чумазый детина, недобро скривился, спросил грозно:
— Что надо?
— Жандармы гонятся.
— Воришек не возим. Марш отсюда...
Объяснить ему, кто мы, не было ни времени, ни надобности. Я перебежал на другую сторону тендера, оглянулся и увидел Капитана на крыше вагона. Казалось, он растерялся и уже собирался спуститься по той же лестнице, по которой вскарабкался на крышу, а пока, держа перед собой корзину, торопливо выбрасывал из нее клочья афиш и газет. Я понял: он старался отвлечь погоню на себя.
Старая корзина снова нас выручила: два жандарма одновременно бросились к лестнице, а третий показался над бортом тендера. Как видно, перед этим он долго бежал, темное лицо его набрякло и дыхание вырывалось со свистом.
— Что, думал уйти? Не уйдешь!
Почему в эту минуту мне вспомнился молот, тот самый молот, о котором говорил Фернандо? Если жандарму запомнились мои слова, наверно, позже он должен был поразмыслить над их загадочным значением. Странно, однако мне думалось, будто он поймет:
— А молот?.. Я молотом по решеткам — р-раз!..
Он шагнул на кучу угля и оступился, паровоз дал гудок, и тендер покачнулся. Я спрыгнул на, землю и перебежал на безлюдный перрон. Теперь я был уверен, что уйду, но... уйдет ли мой отчаянный напарник? Оказывается, Капитан все время наблюдал за мной, и, когда жандарм спрыгнул с тендера, он швырнул вниз корзину. Она ударилась о шпалу и покатилась по земле. До чего же был верен у него расчет! Жандарм словно забыл обо мне и метнулся за корзиной, догнал, стал подбирать клочья бумаги... Капитан бежал вдоль состава, ловко перепрыгивая с крыши на крышу, а потом взмахнул руками и исчез...
Я закричал и кинулся к вагону, по которому он только что бежал. А вагон медленно приближался, такой же, как и все другие в составе, и рельсы под ним чуточку прогибались, и накатанные ободья колес поблескивали.
Почему запомнились такие подробности? Не потому ли, что именно в ту минуту двое жандармов, уже соскочившие с поезда, могли меня схватить? Они опоздали на очень малое время. Знакомый голос испуганно вскрикнул:
— Тряпок больше нет!
Я инстинктивно рванулся в сторону, и рука жандарма промелькнула над моей головой. Теперь я не выбирал дороги: ограда — через ограду, канава — через канаву, сзади топот ног, ругательства и угрозы, но мы уже выбежали за вокзал, в переулок и нас не просто было бы догнать.
Ну, Капитан! Он смеялся. Едва переводил дух и смеялся, и чистые, белые зубы его блестели, а лицо было возбужденным, решительным и красивым. Впервые я заметил, что мой веснушчатый друг так смело красив.
— Они еще не видели нашего подарка, — сказал Капитан сквозь смех. — Пускай полюбуются, лакеи богачей.
Он мягко положил мне на плечо руку:
— Значит, друг-баск, молотом? Здорово! Куда теперь?
— К хозяевам я не пойду.
Капитан задумался.
— Нет. Неверно, друг-баск. Ты должен пойти к ним. Обязательно. Разве ты хочешь оставить им чемодан? И другое: мать знает твой адрес, и никакого другого. Если она пришлет тебе письмо, как ты его получишь? Вот что, мы пойдем вместе.
Навестить мой чулан мы решили во второй половине дня, а сейчас поспешили к большому старому дому, где в чердачной комнатушке Капитан обитал со своей очень старой бабушкой.
Старушка принялась расспрашивать меня о моей семье и родственниках, но я вскоре уснул и, конечно, не мог допустить и мысли, что, проснувшись, не увижу Капитана.
Наверно, я крепко спал и он не захотел меня будить: оставил мне чашку кофе, ломоть хлеба, кусок сыра и записку, в которой сообщал, что увидимся на площади Магдалены в десять.
В девять я уже был на месте, но Капитан не появился и к двенадцати. Маленький Васкес, по кличке Гвоздик, скупо, неохотно рассказал, что видел, как два жандарма схватили Капитана у входа в магазин и швырнули в тюремную машину. Он отбивался руками и ногами, и его рубашка была в крови.
Значительно позже я узнал подробности. Оказалось, что Капитан оставил при себе две листовки, которые решил наклеить на главной площади города — Пуэрта дель Соль. Даже глубокой ночью это было бы рискованным предприятием: стражи закона маршировали здесь круглые сутки. Но Капитан рассчитывал на полную неожиданность. Когда расклейщик афиш принялся за свое дело, Капитан стал ему помогать. Кто откажется от услуг добровольного помощника? Он успел наклеить обе листовки, но его заметили и схватили.
ДОКТОР МАУРО
Так я остался один. Вокруг шумел огромный город, улицы были полны народу, в толпе, наверно, можно было бы отыскать Фернандо, однако для этого понадобилось бы много времени, да и то без надежды на успех.
Я долго брел сам, не зная куда, остановился, осмотрелся и увидел, что стою у ворот тюрьмы Киньонес.
Крашенные в черный, цвет огромные железные ворота были наглухо закрыты. Вокруг, на булыжной улице, ни деревца. Было начало апреля, и парки, скверы, бульвары города уже оделись в свежий зеленый наряд, за чугунной оградой вилл и дворцов цвели диковинные сады, а сюда весна будто и не заглядывала: ветер гнал с нагорья Месета тонкую глинистую пыль.
Поверх тюремных ворот сквозь частокол кованых пик виднелись кирпичная стена и в ней четыре зарешеченных окошка. Я смотрел на эти окна и думал, что, может быть, за одним из них — мама. Если и правда есть чувство, для которого стена не преграда, мать обязательно должна выглянуть в окно. Я говорил себе: терпение, подожди еще час, ну, два, — ты обязательно ее увидишь.
День миновал, и незаметно подкрался вечер, багровый и дымный от заката, как будто весь город охватил пожар.
Я возвращался домой и невольно сторонился стен — от них веяло жаром и спертой духотой. Какая-то незнакомая женщина остановила меня, взяла за руку, вывела на бульвар. Я не видел ее лица — хотел рассмотреть и не мог, слышал голос и не понимал, о чем она спрашивала.
— Те кирпичные стены нужно разбить молотом, — сказал я ей. — Молотом р-раз — и вдребезги!
Откуда-то появилась - другая женщина, вся в белом, — она хотела помочь мне сесть в машину и неловко поддерживала, будто я никогда не ездил в автомобиле. Мы ехали быстро, прямо сквозь вихри огня к дыма, а потом перед нами открылась дверь и вокруг ничего не стало — ни белых стен, ни лиц, ни голосов.
Утром я понял, что нахожусь в больнице. Лысый щупленький доктор сказал:
— Нервное потрясение. Ну, современная молодежь! Я в таком возрасте был железным.
Он заметил, что я слушаю, и спросил:
— С тобой это случалось и раньше? Нет? Хорошо. Дай адрес, мы вызовем родителей.
Я ответил ему, что их нельзя вызвать. Он удивился:
— Почему?
— Они в тюрьме. Отец уже давно, а мать недавно.
Доктор сочувственно покачал головой:
— Вызовем родственников.
— В Мадриде у меня родственников нет.
Он был чем-то озабочен, старенький доктор, тер пальцами лоб и поправлял очки.
— Здесь, мальчик, за услуги платят, сказал он. — Кто-то и за тебя должен заплатить.
— А если некому...
Он зажмурился и долго молчал. Очки на его носу совсем перекосились, и он не заметил этого.
— Все же скажи мне, — спросил он тихонько, словно по секрету, — твои родные... преступники? Воры?
У меня уже давно накапливалась обида на людей, которые были уверены, что в тюрьмах находятся только воры, грабители, убийцы. Мне с детства было понятно другое, и я ответил ему, не скрывая злости:
— Вы, дедушка, старенький и должны бы знать, что воры живут не в тюрьмах.
Он торопливо поправил очки:
— Странно, мальчик... а где же?
— Они живут, в дворцах, в особняках.
На дряблом лице доктора вдвое добавилось морщин.
— Тебя этому научили. Кто научил?
— Дедушка, я продаю газеты...
Он поспешно встал, засмотрелся на свои руки и снова сел.
Твои родные... коммунисты?
— Да. Вчера я ходил к тюрьме. Там это со мной и случилось: будто пожар и горит весь город.
Доктор положил мне на лоб руку, она была теплая и вздрагивала.
— Мальчик... Ты говоришь правду. Нет, я не хотел тебя обидеть. Смотрю я на тебя и думаю: как это важно, Что ты есть! Значит, не один ты такой, а это, мальчик, надежда...
Он еще долго шептал у моей койки, на кого-то сетовал, то улыбался, то вздыхал, а мне подумалось, что доктору и самому следует полечиться. Я так и не понял, отчего по дряблой и темной щеке его сбежала слеза.
Вечером меня выписали из больницы. Дежурный врач, приятный и вежливый, сказал, что я крепок и здоров; как молодой бычок, и вручал пачку рецептов.
— Передай маменьке, что тебе нелишне проехаться к морю. Кстати, сейчас на курортах свободно и спокойно, и ты через два-три месяца станешь богатырем.
— У меня есть другая забота, — сказал я врачу.— Как же расплатиться за больницу?
Он весь засиял улыбкой и перешел на «вы»:
— Э, да вы весельчак, молодой сеньор! Не беспокойтесь, мы дважды не берем за услуги. Внизу вас ждет машина, молодой сеньор... Желаю счастья!
Я не поверил. Я подумал, что произошла ошибка и вместо другого, богатого, выписали меня. Если машина собственная — шофер, конечно, сразу же раскроет ошибку. Возможно, прибыли и родственники больного. Значит, поскорее унести бы ноги с больничного двора! Но в том и заключалось чудо, что никакой ошибки не произошло. В машине меня ждал старичок доктор, тот самый, с которым я недавно беседовал. Не удивительно, что я окончательно растерялся:
— Неужели вы, дедушка, за мной?
Он кивнул и открыл дверцу:
— Садись.
Дорогой он ни о чем не расспрашивал, молчал и смотрел в окно. Я назвал шоферу адрес, и вскоре машина остановилась у нашего подъезда, доктор расплатился и вышел вслед за мной.
— Дальше я пойду пешком, — сказал он. — Мне близко.
— Не знаю, как мне благодарить вас, доктор!
Он слегка поморщился, поправил шляпу:
— Если тебе будет трудно-трудно — приходи. Доктора Мауро в Мадриде знают. Спросишь, как пройти к доктору Мауро, и тебе покажут. — Он слегка коснулся моего плеча, вздохнул и, опустив голову, зашагал по тротуару.
Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за дальним углом.
Так вот кто это был — знаменитый доктор Мауро!
И мне вдруг отчетливо, ясно вспомнилась та тревожная ночь, когда в маленьком Соморростро, в нашей тесной квартирке, старый врач оперировал раненого Амбросио. Вот он закончил операцию, вымыл руки, оделся, оставил на столе деньги, простился и ушел, суховатый и несколько надменный, а Хиль неловко выбрался на середину комнаты, швырнул на пол свой берет и закричал, задыхаясь:
«Доктор… и наш! С нами все умные люди».
А мать добавила:
«Умные и честные».
«Если бы такое почаще повторялось!..» — прошептал Энрике.
«Это зависит от нас самих», — сказала мать.
ПИСЬМО К МАТЕРИ
Эта запись Клавича помечена 25 июля 1941 года.
Сегодня Рубен получил письмо. Его принесла Аня и почему-то ждала, пока он прочтет. Потом она спросила:
— Конечно, от матери?
— Как вы угадали, Аня?
— Глядя на вас, это нетрудно угадать, — сказала она.
Рубен дал прочесть письмо и мне. Я читал очень внимательно. Оно было проникнуто спокойной уверенностью, хотя я и улавливал в нем оттенок озабоченности и тревоги. Рубен как будто понял это и сказал: — Она всегда умела владеть собой, тем более, когда ее поддержка была нужна другому. Но я хорошо ее знаю, чтобы уловить меж строк сдержанное страдание. Мать остается матерью, и нет матерей железных, а если среди тысяч найдется одна такая, у которой вовек не увидишь слезы, значит в минуты горя она плачет сердцем.
После этих его слов Аня заметила:
— Письма от матерей всегда тревожные и грустные. Кто знает, где больше горя, — здесь, в криках, в стонах, или там, в тишине, в которой матери ждут. Мне запомнилась эта строка из письма:
«Теперь ты породнился кровью с народом великого Ленина. Я постоянно буду помнить, что на нашем бессмертном знамени светится капелька и твоей крови, сын...»:
— Может, в том и секрет отваги, — сказал Рубен, — что они, матери, постоянно с нами — и на передовой и здесь.
Некоторое время спустя он взял с тумбочки тетрадь и карандаш. Рука слабо повиновалась ему, и карандаш выскользнул на одеяло.
— Я хочу попросить вас, Клавич, — смущенно сказал он, — написать под диктовку письмо. Сам, признаться, не смогу четко написать, а хотелось бы так много ей рассказать: я мысленно уже отправил ей десяток писем. И это уже заготовлено, а секретов между вами, Янка, и мною нет. Правда, письмо будет длительное... Осилите?
Я, конечно, охотно согласился, а черновик, само собой, остается в моей тетради.
«Дорогая и славная! Мой боевой товарищ говорит: чтобы приметить радость — нужно ее желать. Я с ним, конечно, согласен. А чтобы добыть радость, нужно сражаться. Это ему не приходится объяснять. Значит, сейчас, в пору великой войны, мое желание радости — это желание поскорее вернуться на фронт и добывать ее, радость, оружием...
Я рад, что из нашей дивизии тебе сообщили мой новый адрес. Вот уже несколько дней все собираюсь написать тебе письмо, но сначала решил увериться в своем здоровье, а теперь, когда убедился, что здоров и снова смогу воевать, пишу тебе в полном душевном спокойствии.
Так сложились обстоятельства, мама, что из Москвы я уехал на запад, на славную реку Березину, но это письмо ты получишь с востока, из древнего уральского города Уфы, где столько зелени и солнца!
Меня окружают хорошие люди, внимательные и добрые, а в палате со мной находится мой фронтовой товарищ, учитель-белорус из Любани.
Я рассказываю ему о своем детстве, и он терпеливо слушает мои несложные истории, а у меня такое чувство, словно бы я снова шагаю по родным камням Соморростро и вижу тебя, и отца, и свою маленькую сестричку, и дедушку Марио, и Аррараса...
Постоянно и с радостью убеждаюсь, что здесь, в России, в любом ее уголке знают и любят нашу родину, а борьбу испанского народа, могучие взлеты ее, победы и поражения переживают как свои.
Пожалуй, ты улыбнешься: какие воспоминания в двадцать с половиной лет! Я сам понимаю, что прожил очень мало, и все же в дни этого вынужденного безделья хочется оглянуться на прошлое, проверить, прощупать «по косточке» собственную жизнь.
Вижу, что много времени было потрачено напрасно. Ты всегда старалась заинтересовать меня книгами, а меня тянуло к ребятам, на шахты, в горы. Впрочем, ты сама знаешь, что в наших шахтерских семьях книги были редки и ученостью у нас не хвалились. Теперь совсем другое дело: только отвоююсь, начну учиться. Есть у меня тайная, хорошая мечта: стану механиком.
Знаю, что это нелегко, но у меня достаточно упорства, — изучу десятки машин, гору учебников перечитаю, а своего добьюсь.
Я немного отвлекся, мама, но не рассеянность тому виной — с кем же мне поделиться, как не с тобой, заветными мечтами? Будь это в мои детские годы в Соморростро, ты могла бы только посочувствовать мне. А здесь, на новой нашей родине, мечта и реальность — рядом. И никто не удивится, если я скажу, что хочу стать механиком. Инженером — тоже не удивятся. Больше того, помогут. Академиком?.. Может, посмеются, а все же скажут: шагай, добивайся! Чудеса!
Я рассказываю товарищу о своем детстве. Испания далеко, но, когда я рассказываю о ней, горы Бискайи подступают к окошку. И нередко у меня появляется странное чувство: я словно бы живу двумя жизнями — здесь, в палате госпиталя, и там, среди наших железных гор. Так, видно, созданы все люди: куда бы ни забросила тебя судьба, солнце детства и родины с тобой всегда и неизменно.
Не удивляйся, что и в бою и теперь, в госпитале, мне приходили и приходят на память некоторые эпизоды детства, связанные с Мадридом, — в них много поучительного на всю жизнь. Ты этих эпизодов, конечно, не знаешь: я не хотел их рассказывать тебе, но теперь это дела далекого прошлого и почему-то хочется рассказать. Помнится, как я стоял у ворот тюрьмы и всматривался в каменные лица служительниц-монашек в надежде, что кто-нибудь из них передаст записку тебе.
Нет, они проходили мимо, не слыша моего голоса, не замечая меня, скорбные и недоступные, шли черной вереницей в свою душеспасительную смену и исчезали за железными воротами.
Неделя... Другая. Я уже знал всех, кто приходил к воротам тюрьмы. Худенькая, сгорбленная старушка обычно сидела на камне и задумчиво смотрела на часового. Мне сказали, что она ждала дочь, осужденную на пять лет. Каждый день приходил старый рабочий в забрызганной известью брезентовой куртке, он непрерывно курил, прикуривая одну сигарету от другой, и иногда пытался заговорить с часовым, но тот отворачивался. В тюрьме, как сказал мне этот рабочий, находилась его жена.
Стройная, очень красивая девушка приносила цветы и украдкой плакала. Говорили, что ее сестра, студентка, готовила покушение на какого-то судебного чиновника.
Три десятка людей бывали у тюрьмы ежедневно, приходили то утром, то вечером, но эта девушка мне особенно запомнилась: скромная, тихая, она вдруг с криком бросилась на ворота, билась о них и царапала ногтями — ей передали, что ее сестра умерла.
Еще мне запомнилась моложавая, богато одетая дама. Она приезжала сюда в автомобиле, и ее дочь, хрупкая девочка подросток, улыбаясь, несла вслед за ней корзину, полную подарков. Я удивился, узнав, что в тюрьме у них не было ни родных, ни близких, ни знакомых.
Как-то разговаривая с людьми, что постоянно дежурили у тюрьмы, мать и дочь обратили внимание и на меня: перед их приездом прошел сильный дождь, он промочил меня до нитки, и я, наверно, не выглядел примерным мальчиком.
Женщина подозвала меня, приветливо улыбнулась и стала негромко расспрашивать, почему я нахожусь в столь грустном месте. Объяснять им, кто моя мать, не хотелось. Но мне было интересно узнать, что это за люди. Я едва ответил на два-три вопроса и сам стал спрашивать. Женщина сказала:
— Мой муж — доктор Мартинес.
Я встрепенулся.
— Доктор?! Повторите, пожалуйста, фамилию. Мартинес? А вы не знаете доктора Мауро?..
Она удивленно улыбнулась.
— Он часто бывает у нас.
— Передайте, пожалуйста, доктору Мауро, что вы встретили мальчика, за которого он заплатил деньги в больнице.
Она стала еще внимательнее разглядывать меня.
Да, он что-то рассказывал, припоминаю...
Она дала мне два яблока и ушла, и я поделился со старушкой, сидевшей, как обычно, у ворот.
Мог ли я подумать, что через несколько минут эта женщина увидит тебя, будет разговаривать с тобой, откроет тебе свою душу и что вы подружитесь?
Прошли месяцы, прежде чем я узнал об этом, но всегда ли друга различишь с первого взгляда?
Испытать одиночество в двенадцать лет не каждому приходится. Я испытал его у ворот тюрьмы. Но... почему я не рассказывал тебе об этом раньше, не странно ли, правда? А потому не рассказывал, что не хотел тебя волновать. Теперь, когда прошло так много времени,— дело иное: право, словно бы кто-то другой это пережил. Чем я существовал и где обитал те недели? Несколько раз ночевал у бабушки Капитана. Она была уверена, что Капитан уехал в деревню к родственникам, и ждала от него письма. Мне было тягостно от ее неведения, но рассказать о друге я не мог. На железнодорожной товарной станции в тупике стояли пустее вагоны, в одном из них я и ночевал.
Во дворе какого-то магазина я переносил ящики. Помогал пассажирам на вокзале. Заработал на булку — и к тюрьме. А здесь, ну, хотя бы раз, хотя бы на минутку ты показалась в окошке!
Старый рабочий сказал мне:
— Ступай-ка, мальчонка, к дону Луису Гусману. Может, не камень, и у него есть мать.
Целую неделю я провел в приемной начальника тюрьмы. Сначала меня гнали, потом привыкли... Пожилой жандарм даже придумал мне работу: иногда он кивал мне, я брал кувшин и мчался к водораспределительной колонке.
За это время три раза я видел дона Луиса Гусмана. Пусть пройдет еще тридцать и сорок лет, я узнаю его за полкилометра.
Чудо свершилось — мне разрешили войти в его кабинет. Начальник сидел не за столом, а у окна, и ел простоквашу. Жесткие усики его были белы от простокваши, и Гусман облизывал их, причмокивая, и одновременно просматривал какие-то бумаги.
Заметив меня в кабинете, он громко рыкнул: «Гм!» — и это, наверно, означало, что мне разрешалось изложить свою просьбу.
Я рассказал ему, что уже месяц и в дождь и в зной дежурю у тюрьмы в надежде свидеться с матерью. Слова у меня застревали, я сбивался, а он, огромный и черный, с квадратными плечами, с челюстью, похожей на утюг, продолжал глотать простоквашу, поигрывая ложечкой и облизывая усы.
Наши взгляды встретились единственный раз, до этого он все занимался ложечкой и стаканом, а теперь, когда взгляды встретились, я понял, что этот человек ненавидит меня. Тут же понял и другое: что и я ненавижу его и просьбы не повторю. Это был второй Асеведо, почти копия, тоже холеный и скользкий, тоже подлый и наглый.
— Ты, конечно, коммунист? — спросил он равнодушно,
Я не ответил.
— Вижу, коммунист... Ну что же, ты рано пожаловал к нам. Не торопись, тюрьма от тебя не уйдет, как и ты от нее не скроешься.
Ему, видно, понравилась эта острота; он вскинул сросшиеся брови, выпятил грудь и громко захохотал. Когда он смеялся, рот у него был черный, как воронка, а жесткие усы тряслись.
Уходя от него, я испытывал такое чувство, словно исполнил что-то нужное, значительное, чего нельзя, невозможно избежать, и пусть мои усилия оказались напрасными, все равно я должен был это сделать.
От порога я оглянулся. Через весь кабинет к письменному столу лежала зеленоватая, ледяного оттенка дорожка. Ворс поблескивал, как изморозь, и дорожка казалась скользкой. Дон Гусман сидел в углу за столом, сквозь узорчатые стекла над ним протянулись и спутались тонкие нити лучей. Плечи его, грудь, руки были отсечены тенью, а в световой паутине шевелилась только черная голова.
Ну, право, все было, как на страшной картинке из тех церковных книг, которые я видел у бродячих монахов: ледяная, скользкая тропинка, ведущая в царство паука, и в углу, в сплетении паутины, черная, будто отсеченная, голова.
Я вышел на улицу и присел на камень рядом со старушкой, столько времени ожидавшей дочь. Не было ни мыслей, ни желаний, но сознание, что сделано важное и необходимое, не покидало меня.
Мимо прошел какой-то мужчина. Я даже не посмотрел на него: мало ли здесь страждущих?! Он возвратился, постоял передо мной, отошел в сторону. Когда он приблизился в третий раз, я поднял голову... Фернандо!
Я готов был броситься ему на шею, но он взглянул на часового и сказал негромко:
— Пройдемся до угла...
Мы шли неторопливо, будто скучая, миновали перекресток, сквер, остановились у маленького кафе.
— Зайдем? — предложил Фернандо и толкнул дверь.
В кафе было пусто, мы заняли стол в уголке, и, сняв фуражку, молодой, сильный, веселый Фернандо тихонько засмеялся:
— Дай-ка, малыш, я тебя поцелую... Сколько искал!
Я стал рассказывать о своих скитаниях, но Фернандо прервал меня:
— Сначала ты должен подкрепиться. — Он заказал несколько блюд, и официант удивился:
— Это для двоих?
Фернандо сказал ему серьезно:
— Мы питаемся с запасом на неделю.
Официант ушел, а Фернандо рассматривал меня, то хмурясь, то улыбаясь.
— Вот что, друг милый, — удивленно спросил он, — ты был у начальника тюрьмы?
— Был и просил о свидании.
Фернандо прикусил губу.
— Упрашивал?
— Нет, он сразу же отказал, и я ушел.
— Понятно. К нему нужно явиться десять раз, тогда, быть может, разрешит, если у него будет хорошее настроение. Мне много порассказали о нем.
Фернандо задумался.
— А знаешь, это совсем неплохо, что ты у него побывал. Почему? Ты увидел врага. Ты стоял перед ним лицом к лицу, перед этим подлым холуем власть имущих, и должен был получше его разглядеть — это из тех неприкрытых гадов, против которых мы боремся.
Высокий открытый лоб его пересекла резкая морщина.
— Запомнил?
— Запомнил...
— В случае открытой борьбы такие гады будут беспощадно убивать наших. Значит, мы тоже не станем церемониться с ними... Запомни и это.
— Я запомню.
Он очень, нравился мне, этот человек, собранный и энергичный, от него веяло силой и решимостью.
Я спросил о Капитане.
— Год исправительной колонии. Ничего, — Фернандо улыбнулся, скоро сбежит. Недавно я навестил его старушку. Что ж, от тюрьмы не приходится зарекаться. Ты будешь продолжать работу?
— Клеить листовки?
— Да.
— Конечно. Куда прийти?
Он легонько обнял меня за плечи:
— Правильный, друг-баск, ответ. Но этим делом займемся, когда ты вернешься в Мадрид.
— Я не собираюсь уезжать.
— Нет, ты уедешь, — сказал Фернандо и стал закуривать. — Ты поживешь в Соморростро, пока мы вырвем из тюрьмы твоих родных. Кроме того, За тобой увязалась «тень».
Он знал и об этом, но откуда? Быть может, какими-то путями Капитан успел ему сообщить о сеньоре Асеведо и моих подозрениях? Возможно, у Фернандо были и другие источники? Я не допытывался: если он что-то знает, ему положено знать.
— Нужно сообщить матери, чтобы она писала мне на Соморростро, — сказал я Фернандо, не разобравшись как следует — радоваться отъезду или грустить. — Вы сможете сообщить ей об этом?
— Конечно, — подтвердил Фернандо. — Конечно, друг... И потом, это ведь ее распоряжение — отправить тебя на родину. Решение правильное: что тебе у этого жалкого шпика мытариться?
— Вы знаете его?
— Нет, не имел несчастья познакомиться. Но, возможно, придется...
До чего же он был необычным человеком, славный Фернандо! Он так меня спросил об отъезде, будто предлагал прокатиться в трамвае две-три остановки. Я немного помедлил, все это было неожиданно — и встреча с ним и отъезд, а он усмехнулся и сказал весело:
— Можно подумать, что у тебя не закончены дела где-нибудь в «Банко де Эспанья» или в «Банко сентраль». А, вспомнил, чемодан? Пускай остается, в нем никаких секретов нет. Чета Асеведо может еще разок в нем порыться, но ничего не найдет, его хозяйка человек достаточно опытный и осторожный.
Фернандо взглянул на часы:
— Поезд отправится через час тридцать. Мы успеем не торопясь добраться до вокзала и взять билет. — Он наклонился ко Мне и сказал совсем тихо: — Мы даже успеем постоять у тюрьмы.
У тюремных ворот мы стояли не более пяти минут. Худенькая старушка по-прежнему сидела на камне. По плитам дорожки неторопливо шагал часовой. За этой каменной тропинкой, пройденной им тысячи раз, где-то очень близко была ты...
Через час Фернандо взял билет и проводил меня до вагона.
Вот, мама, о тех далеких днях, прожитых без тебя. Как видишь, в них было немного событий, а если они и происходили, то незаметно для посторонних, в моей душе. Впрочем, теперь я понимаю, что самые значительные события происходят именно в душе человека.
Помнится, на перроне я написал тебе записку, что жил все эти дни весело и безбедно. Фернандо прочитал и одобрил.
— Так нужно, — сказал он. — Я постараюсь передать.
Мы стояли у вагона, и, чуточку грустный, чуточку насмешливый, он говорил:
— Нельзя, друг-баск, сказать, чтобы столица провожала тебя шумно... Единственный, кто проявляет к нам интерес, — личность не симпатичная... видишь?
Я оглянулся и вздрогнул:
— Гусман!..
Фернандо захохотал:
— Долго он будет мерещиться тебе? Этот чином поменьше... вокзальный бульдог.
Фернандо зашептал быстро, отрывисто:
— Не беспокойся... Ты пассажир законный, с билетом. Ну, господа гусманы, подождите...
Помнишь, иногда ты удивлялась, почему мне так запомнился дон Гусман? Да, у меня была уверенность, что я обязательно встречусь с ним, хотя он мог неузнаваемо измениться.
Черная голова, что шевелилась в углу кабинета, в паутине, могла обрести черты Асеведо и «вокзального бульдога», Паука из Соморростро и того, кто увез тебя в тюремной машине, кто схватил Капитана. Все равно, встретиться с любым из врагов, значит встретиться с Гусманом. И это предчувствие встречи не обмануло меня.
Я думаю о своей жизни и благодарен ей за щедрость: она научила меня идти впереди судьбы. В бою под Борисовом я немного рассчитался за годы тревог, презрения, тоскливых ожиданий, «Гусман» прятался в машине и не ожидал, что моя граната точно ляжет под гусеницу.
Потом, когда машина завертелась в грязи, «гусман» встревожился: он приоткрыл башенный люк. Это было его последнее движение.
Где-то есть рубеж, и наши солдаты хорошо это знают, рубеж, на котором «гусманы» окончательно убедятся, что нельзя, невозможно поставить на колени тех, кто выше страха и смерти, кто идет впереди судьбы.
Прости за длинное письмо.
Поскорее бы вырваться из госпиталя и — на фронт».
СТУПЕНИ
...Удивительное дело, Клавич! Оказывается, не просто рассказать свою жизнь. Ее нельзя рассказать со всеми подробностями, как нельзя прожить вторично. И невозможно рассказать лишь о себе; память будто линза: сквозь нее проходят собранным пучком многие другие жизни, события, время. Все это и есть главное, потому что в какой-то мере отражает дела решающей силы народа. А личное... Кому оно интересно, если в нем нет многих других людей?
Я вспоминал о женщине, которая регулярно приезжала с тоненькой, хрупкой девочкой в тюрьму, не имея среди заключенных ни близких, ни знакомых. Еще тогда я узнал, что она избегала встреч с уголовными, но искала знакомства с политическими узницами. Она симпатизировала коммунистам, и мать в скором времени подружилась с ней.
Могла ли тогда эта приветливая, с доброй улыбкой женщина — жена известного на весь Мадрид врача, мать славной девочки и двух взрослых сыновей, с детства обеспеченных и отлично воспитанных, — могла ли она подумать, что железные ворота женской тюрьмы, через которые она так свободно проходила, вскоре захлопнутся за ней, а то, что ей выпадет на долю, будет страшнее самой мучительной пытки?
Но мы опять возвращаемся в мое детство, в тот отрезок времени, когда я понял, что значит идти впереди судьбы. Это понятие включает в себя и жадность к жизни, волнующую жадность к людям: ты смотришь на людей как на живые книги, которые хочется прочесть, а прочитанная книга неуловимо становится частицей и твоей жизни.
Я и сам не приметил той перемены, которая произошла во мне, возвратясь в Соморростро, я стал читать книги. Бабушка сердилась, тетки недовольно шептались, но я читал все без разбора, что удавалось достать. Дедушка Марио дал мне старый, затрепанный песенник, и, листая пожелтевшие страницы, я совершил открытие: здесь была песня о России!
Так случилось, что нс из учебника истории — из испанской песни я узнал о русской революции 1905 года. Я разыскал дедушку Марио и показал эту песню. Оказывается, он знал ее наизусть.
— Мальчик, — сказал Марио, как всегда важно и строго, — разве границы государства могут остановить весеннюю грозу? Пусть миллион жандармов станет на границе — они не остановят грозу. Спроси у любого старого баска, он помнит эту песню. Потому что тогда в далекой большой России и для нас зажегся свет. Вам, историку, нелишне записать эти строчки:
Будь несгибаемым, русский народ,
Час заветный настал.
Верь, к революции вашей примкнет
Весь Интернационал.
Смело и гордо с себя стряхни
Самодержавия гнет,
Пусть рекою кровь богачей
По улицам потечет!
Мне стало понятно, продолжал Рубен, что еще в те времена люди Испании мечтали о свободе России, как о своей свободе. Я еще ни разу не встречал ни одного русского, только в порту Бильбао издали видел советский пароход. Он стоял на рейде, и широкое алое полотнище флага плыло над его кормой... Как мне хотелось бы ступить на палубу того парохода! Я уже много слышал о России и, как все мои товарищи в Мадриде, в Сомороостро, мечтал увидеть далекую страну Ленина. Пароход был живой частицей России. Вскоре он поднял якоря и ушел в океан, и, помнится, светлая чайка долго парила над его мачтами, как верная спутница или как моя мечта.
Иногда к нам в Бискайю доходила газета «Мундо Обреро». Власти снова были вынуждены ее разрешить. Я брал ее в руки, волнуясь: это была моя газета — еще так недавно я получал ее по утрам большими пачками, свежую, остро пахнущую краской, с броскими заголовками, с отважными статьями, получал и мчался по улицам Мадрида, выкрикивая новости.
У меня была уверенность, что газета обязательно сообщит о матери; проходили недели, месяцы, но ее не освобождали. Железные ворота, будто навеки захлопнулись за ней. Прекратились и письма от нее, быть может, их задерживал сеньор Гусман?
Мне было трудно в те дни, и особенно потому, что он очень горек, чужой хлеб. Я не жалуюсь ни на бабушку, ни на теток — они сами жили на картофеле и воде. Я должен был зарабатывать хотя бы немного. А куда податься в нашем маленьком городке, где столько здоровых, сильных мужчин месяцами не находили работы?
В любую погоду я брел на вокзал в надежде, что повезет, брел и планировал покупки для сестренки, для бабушки, для себя, но пассажиры, приезжавшие в шахтерский городок, в услугах носильщиков не нуждались.
Вскоре доставка в наш город «Мундо Обреро» почему-то прекратилась. Шахтеры говорили, что правительство начало поход против коммунистов.
Кто-то в городе постоянно интересовался нашей семьей и был даже настолько добр, что иногда присылал нам другую газету — монархическую «АБЦ». Некоторые статьи в ней были жирно обведены синим карандашом, а отдельные строчки подчеркнуты. Конечно, газета адресовалась не нам, ребятам, — сестрам матери и их мужьям.
Какими оскорблениями осыпала она коммунистов, как злобно призывала к расправе над ними, как подло клеветала на мать. Тот, кто присылал нам этот «подарок», вряд ли мог догадаться, что мальчишка, сын коммунистки, брошенной за решетку, видел его лицо. С газетной страницы на меня смотрел не мигая дон Гусман, но я выдерживал его ледяной взгляд.
Тетки шептались:
— Нужно спрятать детей. Их нельзя выпускать на улицу — убьют.
Бабушка окончательно растерялась и, обычно строгая, властная, теперь все чаще плакала и причитала над нами.
Уже миновало лето, отшумели осенние дожди, но и в ноябре иногда выдавались погожие деньки, и в один из них перед закатом к нам постучалась знакомая рыбачка Люсия. Словно светлее стало в доме, когда она вошла, — сильная, бронзовая от солнца и ветра.
Амая бросилась к ней с радостным визгом, и Люсия подхватила ее, вскинула до потолка.
— Я новость принесла вам, шахтерята... Видела мать.
Бабушка стала креститься:
— Это мои молитвы услышаны. Святая заступница Филомена помогла.
Рыбачка громко засмеялась.
— Да ведь Филомена от зубной боли помогает. Это ее специальность. А тут, мамаша, тюрьма.
Бабушка обиделась:
— Святая все может...
Люсия небрежно махнула рукой:
— Ну, если все может, почему не помогла? Значит, в полиции у нее связи слабоваты. Вчера я была в Бильбао и у рынка святого Антония увидела толпу. Толпа была тихая, печальная, и кто-то сказал: «Бедненькая...» Я это услышала и подумала: «Может, кого-нибудь из наших рыбачек схватили?» Протолкалась вперед, вижу — два рослых гвардейца ведут женщину. Оба они вроде бы смущены, на носки своих сапог смотрят, стараются поскорее сквозь толпу пройти, но в такой тесноте не разгонишься, шаг тороплив, да неширок.
А женщина очень хороша собой: высокая, стройная, аккуратная, с тихим, задумчивым, светлым лицом. Она высоко держала голову и чуть заметно улыбалась. Как видно, она немало пробыла в тюрьме, лицо у нее было бледное, утомленное. Какая-то старушка подала ей монету, но женщина отстранила ее руку.
«Благодарю, мамаша, но я не нищенка. И не уголовная. Коммунистка я. За ваши права, за вашу радость борюсь».
Тут конвоир гаркнул:
«Молчать!»
А толпа прихлынула еще теснее, и кто-то уже швырнул в конвоира горсть ореховой шелухи, так и осыпал с головы до ног.
Как же это случилось, что я с первого взгляда ее не узнала? Может, потому, что твердо помнила: Долорес в Мадриде? Верно, было что-то знакомое мне и в лице ее, и в прическе, и в фигуре, и в том, как спокойно, гордо несла она голову, — я это и раньше в ней примечала... Но вот мы встретились с ней на секунду глазами, и я закричала во все горло:
«Долорес!»
Да и она узнала меня! Резко обернулась и прошептала:
«Ты... Люсия?!»
Гвардеец толкнул ее плечом:
«Быстрее!»
Она успела крикнуть:
«Передай товарищам, что я переведена в тюрьму Ларринага».
Рыбачка опустила на пол Амаю, задумалась, зло усмехнулась:
— Бедное правительство! У него не хватает машин перевозить арестованных. Так и гонят, бедняг, от Северного вокзала через рынок в страшную Ларринагу. Тем двоим конвоирам, пожалуй, несдобровать бы, если бы мать к толпе обратилась.
— Упаси боже! — испуганно прошептала бабушка.— Конвоиры могли ее убить.
Рыбачка спокойно согласилась:
— Могли. И ваша Филомена не вступилась бы. Но они и сами были бы убиты. О, будьте уверены, они понимали это и потому топтались, как на гвоздях.
Она подошла к бабушке, обняла ее и заговорила доверчиво, ласково, как с маленькой:
— Вы, мамаша, всю жизнь оберегали семью. Случится несчастье, погибнет кто-нибудь из шахтеров в штольне — слава богу, не наш, пронесло! Так и в других семьях: главное, чтобы с ними беды не случилось. Верно, люди жили так от века, но больше так жить нельзя. Семья-то наша, мать, огромная — и вы, и я, и тысячи шахтеров, рыбаков, металлистов, и всем нам грозит беда. В Бильбао по улицам бродят какие-то сопляки, орут и безобразничают, прославляют Хосе Антонио Примо де Ривера. Слышали о таком? Ну и хорошо, что не слышали. Это сынок диктатора, подонок, фашист, он похваляется, что зальет кровью всю Испанию. Чьей кровью? Может, помещиков, банкиров шахтовладельцев? Нет, рабочей кровью, мать... Вот и рассудите сами: прятаться нам в темные углы и заранее, становиться на колени или дать этим подонкам по зубам?
Какая она была смелая и. ясная, рыбачка Люсия! Даже бабушка забыла про свой молитвенник, тронутая вниманием, улыбкой, серьезным обращением к ней, и сказала рассудительно:
— Конечно, голубушка, по зубам...
Люсия звонко засмеялась. От нее веяло свежестью и здоровьем, и, когда она проходила по комнате, словно бы ветер, пахнущий морем, врывался в окно.
Я провожал ер с сестренкой до автобуса, и, прощаясь, она сказала:
— Я не знаю, хорошо это или плохо, что мать перевели в Бильбао. Будем надеяться на лучшее. По крайней мере, теперь она недалеко.
Ранним утром, тихонько уйдя из дому, я мчался на случайном грузовике в Бильбао и к полудню разыскал тюрьму.
К матери меня не пустили и записку не приняли.
«С детьми не имеем дела», — сказал надзиратель и захлопнул окошко. Я постоял у ворот, таких же высоких и глухих, как и в Мадриде, и ушел бродить по городу. Тогда, в порту Бильбао, я увидел советский пароход...
В жизни есть эпизоды, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но они оставляют в памяти глубокий след. Я вижу и сейчас, как на ближнем рейде задымленный океанский скиталец поднимает якоря... На палубе полуюта стоят у перил матросы. Они машут руками, и грузчики на пирсе дружно отвечают им... Густая, брусничного цвета волна плещет над головами матросов, и море, как будто не от зари — от флага, повторяет алый цвет...
В середине зимы, после стольких месяцев ожидания и, все-таки неожиданно, мы увидели на пороге квартиры мать. Она была не одна. Первым в квартиру ворвался дедушка Марио. Он любил приносить добрые вести, но на этот раз ничего не успел сказать, только швырнул на пол шапку. Потом вслед за матерью вошли незнакомые, люди, они заполнили комнату, коридор, лестничный проход, крылечко, двор... Здесь были шахтеры с окрестных шахт, их жены, их ребята; были и соседи с нашей улицы, и три железнодорожника в форме, и пожилой моряк. Я никогда не видывал радости шумней и дружнее и такой, чтобы все ликовали, как один человек, ведь и на свадьбах и на именинах всегда кто-то оставался грустным, а тут было всеобщее веселье и торжество.
Поздней ночью, когда все разошлись, а мы с сестренкой улеглись спать, за столом остались мать и бабушка.
Карбид у нас давно кончился, и на столе горела свечка. Мать и бабушка сидели друг против друга, у них, как видно, предстоял серьезный разговор. Бабушка заговорила первой, и в голосе ее не было радости, только обида и усталость:
— Вот и дождались тебя. Наконец-то!
— Ты, конечно, упрекала меня, — сказала мать.
Старуха кивнула:
— Что было — то было. Видишь, куда завели тебя книжки? В тюрьму. Мне, матери, каково? Но теперь ты выбросишь из головы эту блажь, правда? Будешь, как все люди, хозяйничать, растить детей.
— Да, я очень люблю своих ребят, — сказала мать — Как они подросли! Мне было трудно без них, очень трудно.
Старуха медленно перекрестилась:
— Это моя надежда. Они тебя привяжут к дому. Все еще поправится, все будет хорошо.
Мать покачала головой.
— Я уезжаю в Мадрид. Все будет хорошо, когда народ станет у власти.
Свет затрепетал на лице бабушки, она подняла руки, словно защищаясь.
— Ты уезжаешь. А дети?..
— Дети поедут со мной.
Бабушка горько задумалась, впалые губы ее что-то шептали.
— Ты опять за свое? — сказала она.
— Странно, что ты меня не понимаешь, — грустно молвила мать.— Тысячи людей понимают, а ты...
Бабушка резко выпрямилась, лицо ее стало гневным.
— Я берегу тебя. И детей. Ты — жертва. Тебя убьют, как убили Гальо и Перикачо. Кто по тебе заплачет? Только я...
Мягким, знакомым движением руки мать отбросила со лба непокорную прядь.
— Я готова на все. Ради нашего дела. Не отговаривай меня, Это не поможет. Дети вырастут, они меня поймут.
Бабушка заплакала, а мать наклонилась и погладила ее волосы:
— Все решено, милая, — сказала она тихо и нежно.— Мы больше не будем к этому возвращаться. Не нужно, не страдай за нас. Народ поднимается все выше со ступени на ступень, и я поднимаюсь с народом, и что ж, если они трудные, эти ступени?
За окошком мела метель, и желтое пламя стеариновой свечки пугливо вздрагивало.
Через три дня мы уехали в Мадрид. Теперь с нами была и Амая.
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
В Мадриде мы остановились у приятелей матери — это была дружная рабочая семья, и здесь нас как будто давно ждали.
На второй день по приезде в столицу я встретил Капитана. Он заметно подрос, возмужал, стал еще серьезней и деловитей, но по-прежнему без причины хмурился и цвиркал сквозь зубы.
Казалось, он нисколько не удивился, увидев меня на улице Гранвиа, подошел, пожал руку, цвиркнул через плечо и спросил:
— Что ж так долго путешествуешь? Время, друг- баск, дорого, и ты здесь очень нужен. Если у тебя нет неотложных дел, следуй за мной.
Мы долго шли по улицам и переулкам и очутились в рабочих кварталах Тетуан де лас Викториас, где не раз бывали и раньше.
— Нам сюда, — шепнул Капитан, и мы вошли в подъезд старого дома.
Здесь во дворе размещались авторемонтные мастерские, на булыжнике мостовой стояли разбитые и разобранные машины, трое рабочих пытались вкатить грузовик на деревянную горку. Машина не поддавалась, и я стал им помогать. Кое-как мы вытолкали ее наверх, и тут кто-то сграбастал меня за плечи, легко приподняв над землей... Я еле вырвался из крепких объятий и увидел перед собой Фернандо.
Капитан тихонько смеялся: я понял, он был очень рад нашей встрече и только не подавал виду.
— Отлично! — сказал Фернандо и еще раз обнял меня. — Отлично, паренек! Значит, снова вместе.
С этого дня началась моя настоящая работа для партии. Конечно, я был еще мальчуганом, и меня влекли приключения, опасности, секретные встречи с друзьями, ночные вылазки в город... Мы выходили с листовками, с красками и трафаретом и щедро украшали стены домов яркими красными звездами, серпом и молотом, лозунгом «Смерть капитализму!».
За нами гонялись полицейские, в подъездах домов дежурили переодетые шпики. Сынки помещиков, торгашей вступили в отряды штурмовой гвардии и постоянно были готовы пустить в ход оружие. Они соскребали со стен наши звезды и писали свой лозунг, брошенный фашистом Риверой: «Мы признаем только одну диалектику — диалектику пистолетов».
Правда, «диалектика пистолетов» позже обратилась против самих фашистов: основатель фашистской партии «Испанская фаланга» Хосе Антонио Примо де Ривера в ноябре 1936 года был осужден народным трибуналом и расстрелян. Он оказался последним трусом, ползал на коленях и молил о пощаде, этот хвастливый палач.
Сколько бы ни вносили мы, ребята, своего, детского в нашу работу, но это была работа для партии, и мы понимали ее значение.
Был год 1933-й; в Германии к власти пришли фашисты, а на испанской земле в богатых кварталах городов, в помещичьих владениях, в монастырях, в самой столице поднимали головы все темные силы, и полиция, конечно же, была на их стороне.
Я помню обращение компартии к молодежи — мы его расклеивали три ночи подряд. Это был призыв создать антифашистскую милицию для самозащиты народа. Дважды нас, ребят, обстреливал ночной патруль.
Мне было и страшно и радостно: это ведь не шутка — я получил первое крещение огнем.
Капитан сожалел, что мы не имели оружия. Он хмурил брови и цедил сквозь зубы:
— Мы бы им показали... Мы им еще покажем, друг-баск!
Я был уверен, что умею хранить тайну, что никакая сила не вырвет у меня секрета, доверенного Фернандо или Капитаном. Но детская логика подсказывала: если тебе доверяют, почему ты сам не можешь никому довериться?.. Под большим секретом я сказал сестренке, что знаю, как свистят пули.
В том, что случилось потом, я мысленно упрекал Капитана: и надо же было ему подарить мне в ту пору клетку с пестреньким, красивым щеглом!
Мать вернулась с работы, и мы сели за стол обедать, когда веселая птичка пронзительно засвистела.
— Да птица у тебя певунья! — удивилась мать. — Вижу, Капитан хороший друг.
— Рубен, — вдруг спросила Амая, — а пули не так свистят?
Я замер. Мать внимательно посмотрела на меня. Сестренка поняла свою оплошность и стала оправдываться:
— Я ведь ничего не рассказывала, только спросила...
— Ты это напрасно, — сказала ей мать. — Рубен ничего от меня не скрывает.
Она еще раз взглянула на меня.
— Правда, Рубен?
— Я ничего не скрываю. Но я не все и рассказываю.
Мать оставалась спокойной и доброй.
— Конечно, у тебя есть свои товарищи, свои дела. Я даже горжусь, что ты уже сам зарабатываешь деньги, мой газетчик. А все-таки где ты слышал, как свистят пули? Как думаешь, матери это положено знать?
Была бы это бабушка, та обязательно накричала бы на меня, и я ничего не рассказал бы. Но именно потому, что мать не допрашивала, оставалась доверчиво-спокойной, я рассказал ей о тех трех ночах.
Потом мы долго молчали. В клетке насмешливо посвистывал щегол. Я разозлился на него и хотел вынести клетку. Мать остановила меня:
— Подожди, птица не виновата. Я знаю, Рубен, что ты распространял листовки. Товарищи видели тебя в рабочих демонстрациях, и ты почему-то обязательно оказывался там, где завязывались стычки с жандармами. Так не годится, Рубен: ты еще мал, а жандармы, штурмовики, фалангисты — это подонки, способные на все.
Я попытался оправдываться:
— Разве нельзя смотреть? Кто говорил тебе, что я лез в драку?
— Нет, этого не говорили, Рубен. Только и недоставало, чтобы ты, мальчик, ввязался в драку с фашистами.
Я сказал ей откровенно:
— Знаешь, мама, мне уже надоело, что меня считают слишком маленьким.
— Значит, так оно и есть...
— Вспомни свой разговор с бабушкой. Ты думаешь, я спал, когда вы говорили? Нет, я не подслушивал, просто не мог уснуть, потому что такая радость — и твое возвращение и поездка в Мадрид. Бабушка уговаривала тебя бросить книжки, заняться хозяйством, детьми... Я слушал, и сердце замирало: что скажешь ты? Была минута, когда мне стало страшно, а вдруг ты скажешь: «Хорошо, я покоряюсь, я остаюсь здесь». И как я обрадовался, когда ты ответила: «Не отговаривай меня, это не поможет».
Мать слушала внимательно и сочувственно спросила:
— Ты очень хотел вернуться в Мадрид?
— Нет, я поехал бы с тобой в деревню, на шахту, в тот домик у дороги, помнишь? Я поехал бы куда хочешь! Ты не отказалась от своего дела, вот я о чем.
Лицо ее просветлело, глаза повеселели, такой она бывала в минуты радости.
— Ты это понял? Хорошо. И все-таки ты должен меня слушаться. Завтра народ снова выйдет на улицы, и полиция наверняка затеет какую-нибудь провокацию. Это очень опасно, мальчик. Ты должен остаться дома.
Мне стало обидно, и я спросил себя: что сказал бы сейчас Капитан? Он был бы огорчен и, наверное, сказал бы разочарованно:
— Жаль, и твоя мамаша, как все...
Да, мама была как все матери, постоянно тревожилась о нас, переживала, принимала к сердцу все неприятности, которых при нашей беспокойной жизни было немало. Но от многих других ее отличало одно — она понимала нас. Если бы ночью, в метель, в мороз, в дождь пришли из партийной ячейки товарищи и сказали, что нужно немедленно ехать или идти пешком на край Испании и что на этой дороге ее ждут смертельные опасности, но партия считает, что ехать нужно, — она немедля отправилась бы в путь. Все личное, даже самое дорогое, у нее было на втором плане. Я не мог это выразить, но с детских лет понимал, что у матери есть святыня, высшая цель в жизни ее борьба.
Не знаю, как вырвался у меня этот упрек, пожалуй, тут было виной слово «мальчик», оно мне казалось обидным, тем более что речь шла о больших, серьезных делах.
— Ты революционерка... И как же ты хочешь воспитывать нас… тихонями?
Мать медленно встала из-за стола. Она прошла по комнате, остановилась у окна, засмотрелась на улицу. Там не было ничего интересного, просто она смотрела, покусывая губы и хмуря брови.
— Нет, я не хочу, чтобы ты был тихоней, — проговорила она так, словно уже к самой себе обращалась. — Только представь, как мне будет больно, если с тобой случится что-нибудь...
Вот и разберитесь, Клавич, в «истоках чувств»: я сказал матери правду, то, что думал, и не чувствовал за собой вины, а все же мне было тягостно целый день, как будто я нарочно ее обидел. В общем и виноват, и нету вины. Что мне могла бы ответить в этом случае
бабушка? Я знал, скорее всего она сказала бы: «Яйцо курицу не учит». Мать только задумалась, но не огорчилась, она словно уверилась в чем-то важном и стала расспрашивать меня о моей несложной работе газетчика и о моих друзьях,
— Да, сегодня мы приглашены в гости, — вспомнила она вечером. — Люди такие славные. У них семейная вечеринка.
Амая обрадовалась, а я удивился: мать никогда не бывала на вечеринках, ей постоянно недоставало времени за работой, за делами в редакции, на заводах, в командировках, за книгами, газетами, совещаниями.
Я сказал ей, что не смогу пойти: ко мне придет Капитан.
Она даже повеселела.
— Вот и отлично. Мы пригласим и Капитана. Я хочу познакомить вас с двумя хорошими парнями, оба коммунисты, сыновья известного врача.
Капитан принял приглашение как должное и спросил с интересом:
— Мартинес? Известный врач-дантист? Владелец зубной клиники на улице Фердинанда? Благодарю вас, но отказываюсь. В богатые дома не хожу.
— Эти люди мне помогали, когда я находилась в тюрьме, — сказала мать. — Они часами добивались свидания со мной.
Капитан резко изменил решение:
— Факт очень веский. Пройдемся...
Впервые в жизни я вошел в богатый дом. Впрочем, я не бывал во дворцах, не заглядывал ни в старинные замки фамильных аристократов, ни в особняки помещиков. Это была хорошая квартира, просторная, светлая, с лепными потолками. Картины в золоченых рамах, рояль, ковры, мягкая мебель, огромная бронзовая люстра... Подобной роскоши я еще не видывал. Тем более мне казалось странным, что хозяин: крепкий, седой, властного вида старик, почтительно открывал перед нами двери.
Пожилая хозяйка, моложавая и приветливая, радостно обняла мать, поцеловала Амаю. Я удивился, как уверенно держался Капитан, как чинно поклонился, подтянутый и вежливый. Мне оставалось последовать его примеру, я тоже вытянулся в струнку и... узнал эту женщину. И как не узнать и улыбку, и голос, и взгляд, и эту маленькую руку, из которой у ворот тюрьмы Киньонес я получил два яблока!
— Будем знакомы, Рубен, — сказала она дружески, прямо глядя мне в глаза. — Я хочу, чтобы у нас тебе понравилось. Сейчас я познакомлю тебя и твоего друга с моими ребятами — Даниелем и Вильфредо.
— Да ведь мы с вами уже знакомы, сеньора Мартинес! — закричал я на всю квартиру. — Помните, мы встретились у тюрьмы, и вы мне дали яблоки...
Она схватила меня за плечи, лицо ее исказила боль:
— Ты? Тот Мальчик у ворот... Ну, кто бы мог подумать?! А ведь я приезжала к твоей матери.
Сыновья Мартинес были совсем молодые, стройные брюнеты, оба немного застенчивые, очень похожие на мать. Они сразу заинтересовали и Капитана и меня, показав нам старинное оружие, которое было развешано на стене в соседней комнате.
Капитан внимательно осматривал кинжалы, любовался насечкой, взвешивал в руке, а Вильфредо, как видно, неплохо знал историю и увлеченно рассказывал о разных Карлах, Филиппах, Фердинандах и прочих королях.
— В общем, — заключил Капитан, не оружие — роскошь. Вот на кинжале насечка: цветы. Бедняку оружие некогда украшать, да и не к чему. Значит, эта штука принадлежала богачу.
— Может быть, самому королю, — заметил Даниель.
— Когда я смотрю на эти прелести, — сказал Капитан, — не удивляйтесь, на память приходят стихи.
Вильфредо засмеялся, а Даниель спросил серьезно: Какие стихи?
Капитан был невозмутим:
Конечно, о сильных мира. О королях, папах, кардиналах.
Братья переглянулись.
— Интересно послушать... — сдержанно сказал Вильфредо.
Капитан осторожно смахнул с кинжала пыль и залюбовался его блеском:
Императоры и папы, наш король и кардиналы,
И министры — и короче, весь реакционный сброд
Проливает кровь народа, час расплаты отдаляя
Безуспешно. Революция им головы снесет.
— Здорово! — закричал Вильфредо, взял другой кинжал, подбросил, ловко схватил за рукоять на лету. — Мне нравятся решительные парни! Чувствуется, Капитан, что вы решительный человек.
Кроме нас — матери, Капитана, Аман и меня, — в гостях у Мартинесов были еще трое: пожилой мужчина с землистым лицом — я его видел в редакции «Мундо Обреро», худенькая, с голубоватым отливом седины старушка — Жена какого-то врача, и молодой рабочий с обувной фабрики — высокий задумчивый Гильен. Еще когда мы знакомились, он коротко сказал о себе:
— Обувщик Гильен, Проще сказать, сапожник.
Некоторое время он оставался со старшими в гостиной, а теперь пришел к нам, и, когда Капитан любовался кинжалами, Гильен заметил значительно:
— Решительность проверяется ежедневно. Вот и завтра...
— Да, завтра что-то случится, — задумчиво проговорил Даниель, взял у Эрера кинжал и стал проверять пальцем острие. — Штурмовые гвардейцы готовятся... вы слышали?
Капитан заговорил запальчиво:
— И снова повторится то, что было: у них, у гвардейцев, — оружие, а рабочие безоружны. Полиция, как всегда, примет сторону гвардейцев. Сегодня на улице Бернардо, недалеко от университета, я видел на стене огромный фашистский знак и надпись черной краской: «Мы покажем красным!» Там, на углу квартала; о чем-то жарко спорила кучка молодчиков. Наглые, задиристые, так и высматривают, кого бы задеть... Я подошел ближе, сделал вид, будто читаю афиши. Толстенький франт выкрикивал пискливым голоском: «Мы призовем Гитлера, и он нам поможет». А другой, в котелке и с бантиком на шее, поминутно прерывал оратора. «У нас есть и свои гитлеры! кричал он. — Да, у нас есть генералы Санхурхо, Франко, Кейпо де Льяно, Лопес Очоа... В Африке они усмирили марокканцев и здесь не пожалеют свинца». — Капитан сплюнул на ковер, выругался: — Была бы у меня граната...
Гильен с улыбкой отобрал у него кинжал, повесил над тахтой.
— Вы горячитесь, молодой человек. Партия ведет борьбу мирными средствами...
Капитан нахмурился, смуглое лицо его перекосилось.
— Фашисты открыто призывают к убийствам. Они уже охотятся за нашими. Если нас будут расстреливать, на улицах...
— Партия примет решение, — спокойно перебил его Гильен и мягким движением поправил Капитану, словно маленькому, чуб. — Она примет решение, и вы, рабочая молодежь, верная партии, узнаете, что нужно делать.
Капитан был упрям, он недовольно отвел руку Гильена.
— Мы хотели бы знать, что нужно делать сегодня. И дела нам требуются поважней.
В разговор вмешался Даниель:
— Как, разве сегодня у вас мало работы? Ваши патрули охраняют рабочие собрания. Вы расклеиваете коммунистические листовки. Распространяете газету. Собираете деньги в фонд заключенных борцов...
Гильен сосредоточенно рассматривал на полке корешки книг.
— Завидую я вам, братья Мартинесы, — сказал он. — Книги, музыка — все в доме.
— Но этого мало, — заметил Вильфредо. — В книги от жизни не спрячешься. Хотя, к сожалению, есть люди, для которых мир кончается за дверью квартиры.
Я не сдержался, спросил:
— Вы хорошо живете, Вильфредо. А вы думали о том, что, если победит народ, быть может, вы будете жить беднее?
Ом спокойно глянул мне в глаза.
— Если победит народ, значит, будет счастлива родина. Перед нею откроется великое будущее. К этому зовут коммунисты. Надеюсь, тебе понятно, что ради этого ничего не жаль, ни личного благополучия, ни самой жизни.
Гильен выпрямился у этажерки, вздохнул, отложил книгу.
— А жизнь, она вся впереди. И не хотелось бы умереть в самом начале дороги...
— Ну, это уже печальная нота! — усмехнулся Даниель. — В народе говорят: смерти бояться на свете не жить. Но сегодня вы, Гильен, какой-то особенный, вроде бы и торжественный и немного грустный.
— Возможно, — рассеянно сказал Гильен. — Вот что, друзья, хотелось бы послушать музыку. Вы хорошо играете, Вильфредо, сделайте нам любезность...
Я отошел в сторонку. Хотелось разобраться наедине в тех отношениях, которые сразу же сложились у меня с братьями Мартинес. Если бы мой вопрос рассердил или смутил Вильфредо, заставил его растеряться и придумывать ответ, пожалуй, я невзлюбил бы этого чистенького, стройного красавца хотя бы потому, что он принадлежал к другой, чуждой мне среде. Я ошибался, конечно, считая рояль невесть каким богатством. Мартинесы принадлежали к трудовой интеллигенции, а мне они казались богачами. Ясный, сердечный ответ Вильфредо без усилия снял ту перегородку, которая на какое-то короткое время встала меж нами: я видел, что эти люди просты, бесхитростны, дружелюбны.
С ними не нужно было «казаться» — следовало быть самим собой. Чем проще я вел себя, тем легче меня понимали. А когда Даниель узнал, что я люблю народные песни и даже знаю одну русскую песню, он сразу же взял тетрадь и карандаш и принялся записывать ее под мою диктовку.
Вильфредо отлично играл на рояле, а его мать пела.
У нее был несильный, но чистый и нежный голос и хороший слух. Когда Даниель положил перед нею текст русской песни, а я напел мотив, было так странна, так неожиданно и волшебно вдруг перенестись вместе с песней в далекую, заветную Россию...
Оказалось, что и Гильен знает одну русскую песню. Прошлым летом он ездил к родственникам в Барселону, где познакомился с моряками советского парохода «Декабрист». Вечером они пели «Раскинулось море широко» под баян, и Гильен записал слова... Кто-то сделал перевод, и по-испански эта простая песня звучала волнующе. Особенно мне запомнились две строчки:
Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут — она зарыдает...
Гильен пропел их с чувством, вздохнул и замолчал, и, после того как прогремел рояль, Гильен, словно бы усталый, уже не допел — договорил слова песни.
Песня умолкла, а Гильен присел в сторонке, в полутемном углу, смотрел на товарищей и чему-то еле приметно грустно улыбался. О чем он думал? Может, о том, что жизнь хороша, что вся она впереди, полная борьбы и надежд?
В ту пору в Мадриде, как и в других городах — от Сан-Себастьяно до Кадикса, от Эль-Ферроля до Альмерии, — чуть ли не ежедневно шумели рабочие демонстрации. Бурлила и деревня — весь тридцать второй и тридцать третий годы вспыхивали крестьянские, бунты. Правительство буржуазных республиканцев и социалистов не успевало слать карательные отряды для изгнания крестьян с земель, захваченных ими у помещиков.
Реакционные партии и группы объединились, и кое-где в провинциях им удалось укрепить свои позиции. Помещики, буржуазия, церковники мечтали о захвате власти. Их особенно радовали события 1933 года в Германии, и «золотая молодежь» Испании — сынки богачей — создавала фашистские организации, которые действовали открыто.
Теперь, на расстоянии времени, мне много стало ясно. Но тогда мы, рабочие ребята, в тонкости политики не вникали. Мы считали себя помощниками партии и знали, какую отважную работу она вела. Никто в Испании не подвергался таким свирепым преследованиям, как коммунисты. Правительство только называлось республиканско-социалистским, а на деле оно выступало в защиту буржуазии, против революционного движения рабочих и крестьян.
Вскоре социалисты были вынуждены выйти из правительства: их партия таяла, народ не поддерживал прислужников богачей, он не простил им и жестокости при подавлении крестьянских бунтов, при разгоне рабочих демонстраций.
А фашисты наглели с каждым днем, им было уже недостаточно крикливых сборищ под охраной полиции — они выходили на улицы с оружием.
Я видел этих молодчиков на Гранвиа, в самом центре города, они шли, по-военному печатая шаг, и тупая физиономия Риверы ухмылялась со щита, который они несли.
Белые перчатки, монокли, котелки, полные презрения усмешки на лицах. На тротуаре неподвижно стояла толпа, притихшая, изумленная, гневная. Кто-то громко крикнул:
— Паркетные львы! Прохвосты!
И они разом повернули головы. Какое высокомерие в прищуренных глазах и какая тупая злоба на холодных физиономиях!
Впервые я видел фашистов так близко, и эта немногочисленная шайка не показалась мне внушительной; появись они у нас, в шахтерском Соморростро, ребята разогнали бы их камнями. А здесь, в столице, молодчики чувствовали себя уверенно, их кто-то поддерживал, защищал, поощрял. Они ввалились всем скопом в дорогой ресторан, и вскоре из раскрытых окон второго этажа донеслись крики, свист, ругательства...
Они затеяли в ресторане драку.
Через несколько минут в вестибюль ресторана промаршировал наряд полиции, потом прибыла карета скорой помощи. Два санитара внесли на носилках в машину какого-то старика. Машина тронулась, и тротуар постепенно опустел.
Пока бородатый швейцар встречал какого-то важного гостя, я проскользнул в вестибюль.
У боковой лестницы дремал над своим ящиком чистильщик обуви — маленький, черный, кудрявый марокканец. Я подошел к нему.
— Послушай, приятель, кого это вынесли на носилках?
Он внимательно взглянул на меня, передернул плечами.
— Откуда мне знать? — И тихо: — Старый инженер не встал из-за стола, когда вошли фашисты.
— Они его избили?
Марокканец покачал головой:
— Не знаю, — затем еще тише: — Избили очень сильно. Наверно, умрет.
— А где же полиция?
Он возмутился:
— Откуда мне знать? Полиция гуляет с фашистами.
— Да ведь это же хулиганье...
— Ну что ты?! Конечно, так. — Он оглянулся по сторонам. — Не забывай, дружок, я служащий отеля, а наш хозяин... ну, ясно? В общем я ничего не говорил.
Холеные физиономии барчуков и тонкий восковой профиль старого инженера с темной струйкой, сбегающей из-под бинта по виску, — такой он, след, оставшийся у меня в памяти после первой встречи с фашистами. И где бы я ни был позже, в пылающем Мадриде, на фронте у Эбро или на берегу Березины — всегда, лишь только речь зайдет о враге, в памяти обязательно четко и резко всплывает тот давний эпизод.
На следующее утро после встречи у Мартинесов Капитан и я явились в условленное место на улице Бернардо.
Как и было назначено, здесь и в прилегающих переулках уже собирались участники демонстрации. Рабочие и работницы приходили большими группами, и по их спецовкам Капитан легко отличал трамвайщиков и железнодорожников, рабочих автомастерских и химиков, цементников и пищевиков, текстильщиков и швей. Особенно выделялась многочисленная группа студентов.
Сначала полиция поторапливала прохожих: «Не задерживать движения!» — потом попыталась разогнать толпу, но вскоре очутилась на маленьком островке тротуара, стиснутая со всех сторон, и единственное, что ей оставалось, — исчезнуть.
В толпе, в окружении пожилых рабочих, я заметил мать. Рядом с нею стоял Гильен — его легко было узнать издали, он на голову возвышался над всеми другими.
Мне запомнилась сдержанная деловитость этого огромного собрания людей — не было ни лишнего шума, ни спешки, ни толкотни. Рабочие быстро строились в шеренги, появились знамена, их тут же прикрепили к древкам, и алая ткань, просвеченная солнцем, всплескивалась над колонной, которая уже четко обрисовывалась в пролете улицы.
Я не хотел, чтобы мать заметила нас, она ведь просила не приходить на демонстрацию. Я говорю «нас» потому, что об этом она просила и Капитана.
Когда колонна тронулась к университету и над рядами студентов одновременно со знаменем взвилась и песня, мы с Капитаном пробрались вперед.
Рядом с Капитаном неторопливо шагал пожилой железнодорожник, он нес фанерный щит. Мы еще раньше заметили искусно исполненный рисунок на щите — сильную, жилистую руку, сломившую пучок фашистских стрел. Надпись гласила: «Смерть фашизму!» Капитан сказал соседу, что рисунок сделан здорово, и спросил, кто художник.
— Ну, если нравится — неси. — Рабочий передал ему шест. — Это вроде подарка от автора... От меня.
За разговором мы не заметили, как из переулка на улицу Бернардо навстречу нашей колонне вышел отряд штурмовых гвардейцев. Наши передние ряды замедлили шаг... Кто-то гневно крикнул:
— Громилы пугают нас оружием! Смотрите, они поднимают винтовки!
До моего слуха донесся голос матери:
— Неужели вы посмеете пролить кровь рабочих Мадрида? Запомните, народ не прощает убийц...
В движениях гвардейцев угадывалась торопливость: щеголь офицер в белых перчатках, в сверкающих крагах, с тросточкой в руке боком проскользнул вдоль шеренги, отдавая какие-то распоряжения. Он замер на секунду, вскочил на тротуар, крутнулся на каблуке и взмахнул перчаткой. Грянул залп.
Кто-то упал рядом со мной, вскрикнул, забился на булыжнике. Колонна смешалась, отхлынула, заняла всю улицу, а на перекрестке остались лежать убитые.
Залп грянул еще раз и еще... Гвардейцы стреляли не целясь: каждая их пуля находила жертву. Офицер подпрыгивал и размахивал перчаткой. Откуда-то, видимо из-под арки ближайших ворот, в него запустили камнем, и офицер не успел увернуться — камень сбил с него фуражку.
В такие секунды многого не заметишь и не запомнишь. Все это было слишком неожиданно. Правители-республиканцы приказали стрелять в толпу! Штурмовые гвардейцы исполнили приказ.
Впрочем, тут было не до размышлений. Колонна уже рассеивалась, потоками врываясь в подъезды домов, ломая железные ворота и калитки. Мы с Капитаном взялись за руки и побежали. Перед нами со звоном разлетелось оконное стекло. Над парадной лестницей большого дома комьями срывалась штукатурка...
На этой лестнице я увидел мать. Припав коленом к ступени, она прижимала к груди голову Гильена.
Большой и нескладный, он лежал неподвижно, тяжело уронив руки. Сквозь пальцы матери на ее белую блузку, на светлый камень лестницы стекала кровь.
Странно, она не узнала ни меня, ни Капитана. Глаза ее были широко открыты и лицо искривлено болью.
— Мерзавцы... — шептала она, приподняв голову Гильена. — Они его убили... Вы слышите? Фашисты убили его! Они ответят, подлецы, и за эту жизнь!
Так мы увидели обувщика Гильена в последний раз.
Он был убит на улице святого Бернардо, неподалеку от университета, на том самом месте, где фашисты намалевали на стене дома свой пучок стрел.
Мы возвращались глухими переулками и дворами.
Капитан остановился, взял мою руку.
— Ты заметил? Твоя мама плакала... В никогда не думал, что она способна заплакать.
Почему-то он вдруг обозлился и ударил, кулаком в чью-то массивную дверь.
ЕЕ ГОЛОС
Мать возвратилась домой только под вечер. Мы ждали ее в тревоге. Она вошла и включила свет, и лицо ее было спокойно, словно недавно ничего особенного не произошло.
— Вот хорошо, что и ты у нас, Капитан, — сказала она, здороваясь с ним за руку. — Кстати, откуда у тебя эта кличка?
Капитан немного смутился.
— Кличку нужно оправдывать, — солидно заметил он. — Я и стараюсь. Дали ее ребята, когда я собирался в Африку удирать.
— Зачем в Африку?
Капитан вздохнул и засмеялся.
— Теперь, конечно, смешно. А тогда я серьезно собирался в путь. Нас было двенадцать ребят, и все дали клятву, что будем бороться за свободу негров. Мы тогда книжку «Хижина дяди Тома» прочитали. Правда, дядя Том проживал в Америке, ну, а мы решили начинать с Африки, с родины негров.
Мать с интересом слушала Капитана и спросила:
— Значит, освобождать негров? А почему не марокканцев, которые поближе? Их ведь «усмиряли» испанские войска... Вот и выходит, что бороться за свободу Африки можно и здесь, в Испании...
— Теперь я это понимаю, — вздохнул Капитан. — Но ведь у Бичер-Стоу марокканцы не упоминались! А все же двенадцать молодцов и капитан добрались зайцами до Малаги и даже проникли на пароход. Там нас матросы загнали в трюм, а портовая полиция заставила делать уборку. Это и было мое первое знакомство с полицией, но, к сожалению, не последнее.
— К сожалению, не последнее, — задумчиво сказала мать. — Сегодня полиция объявила, что убийца Гильена не найден. Да, мальчики, нелегкое выпало вам детство, но... самое трудное еще впереди. Ты приходи к нам. Капитан. Я снова собираюсь в командировку, а вдвоем с Рубеном вам будет веселее.
— Знаете, — откровенно признался он, — я боялся, что вы скажете другое. Соседи считают меня разбойником. Наверно, вид у меня такой, а вообще я добрый.
— Я знаю, что ты хороший парень, Капитан, — серьезно сказала мать. — Мне рассказали, что ты заботишься о своей старенькой бабушке.
Капитан был взволнован, глаза его блестели.
— Может, мало забочусь, но сколько могу.
— Я об одном вас попрошу, — строго продолжала мать, — ночью никому не открывайте двери. Надеюсь, вы понимаете почему?
— Конечно! — ответил Капитан.
Мать уезжала из дома на неделю-две довольно часто, и мы с сестренкой привыкли к ее отлучкам.
Я знал, что в провинции Толедо, в Андалузии, в Кордове, Хаэне и других городах и селах она выступала на рабочих и крестьянских собраниях. Об этом сообщала газета, и я знал, что ее поездки опасны. Однако она возвращалась уверенной и спокойной, и можно было подумать, что невзгоды и опасности нисколько не касались ее.
Если она сама не рассказывала о предстоящей поездке, я не расспрашивал, куда она едет, надолго ли и зачем. Так было твердо установлено в семье, и мы терпеливо ее ждали. Однажды она сказала:
— Представьте, ребята, что я морячка и регулярно отправляюсь на корабле в рейс. Не станете же вы задерживать меня, если это моя работа?
В этот раз я заметил, что она была радостно взволнована и почему-то тревожилась. Прощаясь, она долго держала на руках Амаю, отпускала ее и снова брала. Словно забыв о своем предупреждении, она еще раз повторила, что в ночное время я никому не должен открывать.
Вскоре она уехала, а через два дня после ее отъезда, возвращаясь вечером со своей хлопотливой работы, я увидел в нашей наружной двери глубоко всаженный в филенку нож.
Я с трудом вытащил его из прочной доски. Ножом была приколота записка, она упала к моим ногам. Я развернул ее и вздрогнул. На квадратном клочке плотной бумаги, обведенном траурной рамкой, были крупно нарисованы черной тушью фашистские скрещенные стрелы и под ними аккуратно выведены слова: «Вы приговорены к смерти».
Не заходя в квартиру, я сразу же отправился искать Капитана, но в маленькой каморке на чердаке не застал его и пошел к Мартинесам. Какая удача! Он был здесь. Дома оказались и оба брата, они долго рассматривали записку, и старший, Даниель, сказал:
— Террор... Настоящий фашистский террор. Но ты не пугайся, Рубен. Просто будь осторожен.
Капитан решительно снял со стены кинжал.
— Позвольте, Даниель, на время. Теперь я стану ночевать у Рубена.
— Конечно, можно, — согласился Даниель. — Этого, однако, мало. Хорошо. Я раздобуду для тебя пистолет.
Ух, как засияли глаза Капитана! Он сказал, что в случае обыска оружия у него сам черт не отыщет.
Позже, когда мы возвратились домой, Капитан долго и тщательно изучал нашу часть квартиры — две комнатки, которые отвели нам друзья матери. Он нашел слабо прикрепленную доску пола, приподнял ее, заглянул в прозор и засмеялся:
— Братец мой, да тут можно спрятать и пулемет!
Эта поездка матери была длительной. К нам стал приходить Фернандо. Он всегда что-нибудь приносил: то булку, то полдюжины апельсинов, то кулек орехов или каштанов.
Не знаю, кто дал ему наш адрес, но я замечал, что Фернандо все время держался настороженно. Если кто-нибудь к нам стучался, он, обгоняя меня, спешил к двери. Нетрудно было догадаться, что Фернандо не случайно по вечерам навещал нас и задерживался допоздна. Капитан шепнул мне, что партия поручила Фернандо охранять нашу семью.
Как-то в ноябре, перед вечером, в квартиру постучался Вильфредо.
— Скорее! — закричал он с порога. — Скорее к нам... Бери и сестренку, не пожалеешь.
Через пятнадцать минут мы были у Мартинесов, где застали много гостей: трех молодых людей в студенческой форме, двух пожилых мужчин, которых я раньше видел в типографии газеты, бойкую, веселую девушку, Фернандо, Капитана. Доктор Мартинес и его супруга были, как и прежде, внимательны и приветливы.
— Вот наши именинники! — объявила хозяйка, усаживая Амаю и меня у приемника. — Это очень хорошо, что Даниель позвал вас, просто замечательно! Сейчас мы услышим ее...
Амая обрадовалась:
— Значит, мама приехала? Она будет говорить по радио?..
— Да, сейчас ты услышишь ее, — сказала хозяйка.
Вильфредо настраивал приемник, и, пока он ловил нужную волну, я заметил, что все собравшиеся в просторной комнате были тихи и торжественны, как будто ожидали чего-то особенно важного. Но вот Вильфредо глянул на часы и сказал:
— Москва...
Мы услышали певучий бой часов, шум и плеск прибоя, отголосок дальнего грома и снова размеренный музыкальный звон. Загадочное и напряженное внимание, с каким все обернулись к приемнику, удивляло меня и вызывало непонятную тревогу.
Рокот прибоя оборвался, и голос, такой знакомый, родной, произнес:
— Камарадос...
Амая вскрикнула, спрыгнула с кресла и бросилась в соседнюю комнату. Какие-то секунды мне тоже чудилось, что мать находится здесь, в квартире, и сейчас войдет. Я слышал ее голос, ее дыхание, она была здесь!
Делегат XIII Пленума Исполкома Коминтерна от Коммунистической партии Испании, мать говорила с нами из Москвы.
ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ
...Я спросил у Рубена, — записал Клавич, — кто остался у него в Испании из самых близких, сердечных друзей, но Рубен не понял.
— Много, — сказал он. — Близкие, сердечные люди.
Тут я внес ясность:
— Скажите, вы когда-нибудь... любили?
Он задумался, и улыбка у него была тихая, мечтательная.
— Люблю и сейчас.
— Неужели? И... давно?
— Пять лет. Мне тогда было шестнадцать.
— И она знала?
— Нет, я не говорил ей, что люблю. До самой минуты разлуки.
Где она сейчас?
— Мы расстались в Мадриде.
— А надежда на встречу? Малая капелька... есть?
— В том-то и дело, что все пути отрезаны, а надежда остается. Я вам рассказывал о Мартинесах. Правда, вы еще не знаете их дальнейшую судьбу. Об этом позднее... С Росой я познакомился у Мартинесов — она была подругой Каридад, той хрупкой девочки, которую я впервые увидел у тюрьмы. Помните, она приезжала с матерью и несла корзину с подарками для заключенных?
Когда мой друг Капитан увидел Росу, право, он обомлел, и речь у него стала какой-то бессвязной, и движения порывистыми, угловатыми. Потом он стал расспрашивать меня: кто она, из какой семьи? Я сказал ему, что знал: дочь учителя, подруга Каридад... Он продолжал допытываться: сколько ей лет, о чем мы беседовали при встречах?
— Возраст пока не установлен, — отчитывался я Капитану. — А сказала она такое: если вы настоящие ребята, значит вы революционеры. А если вы революционеры, я с вами готова в огонь и воду и на край света готова идти.
Золотые веснушки на носу, на щеках Капитана плясали, а глаза жмурились, как от солнца.
— Эх, парень... — словно бы с трудом выговорил он.
Я заметил, что он помрачнел, и спросил:
— Похоже, тебе нездоровится, Капитан?
Он и совсем зажмурился.
— Такая девочка! Будь с ней чист душой, как эта звездочка над нами, как эта снежинка, что сейчас на ресницах у тебя.
Мы были совсем детьми: в начале 1934-го мне исполнилось четырнадцать лет, и Роса была не старше. Капитан уже «подтягивался» в кавалеры, а я еще недавно покончил с той враждой к девчонкам, которая свойственна, пожалуй, всем подросткам. Правда, ростом я вымахал выше Капитана и выглядел старше своего возраста, но если говорить о сердечном чувстве, оно пришло через два года. Для меня и Росы оно оказалось поздним — фашисты разлучили нас.
С Росой мы быстро подружились. Каридад даже обижалась и упрекала меня, что я отнимаю у нее подругу. Я познакомил Росу и с Фернандо, и, тут же забыв меня на повороте улицы, они ушли далеко вперед и долго о чем-то говорили.
Потом Фернандо извинился передо мной:
— Прости, друг-баск, девочка, понимаешь ли, особенная, видно, разумная и смелая. Для проверки я дам ей одно поручение, и, если выполнит, доверим и поважнее дела.
Его поручение Роса выполнила блестяще: подошла к группе солдат, заговорила с ними, на шутку ответила шуткой, познакомилась. Через пятнадцать минут она вспомнила, что, мол, забыла запереть квартиру, и ушла, а у солдат остался пакет с дюжиной листовок.
Вскоре Роса стала работать с нами, и кто мог бы подумать, что эта милая синеглазая девочка с косичками школьницы, с ясной, доверчивой улыбкой носит в своем портфельчике груз, который полиция приравнивала к взрывчатке, — коммунистические листовки?
Это было в тридцать четвертом году, когда у власти в Испании оказалась радикальная, партия во главе с авантюристом Лерусом, ее поддержали все темные силы реакции — отъявленные фашисты и церковники, крупная буржуазия и помещики. Правительство Леруса было ширмой, за которой фашисты готовились к решительному прыжку — к полному захвату власти. Но рабочих Испании уже не могли обмануть ни путаные речи Леруса, ни призывы католических попов к всеобщему братству, ни обещания каких-то свобод, которые сулили народу враги свободы.
В октябре в крупнейших городах Испании вспыхнуло революционное восстание. Всеобщая забастовка охватила Мадрид, Севилью, Кордову, Валенсию, Леон, Бискайю, Астурию, Гипускоа... Перепуганное правительство решило подавить восстание любой ценой: не надеясь на свои силы, оно кликнуло на выручку и генералов-«африканистов», тех самых вешателей и погромщиков, которые всегда верно служили монархии и так гнусно прославились в Марокко.
Именно тогда впервые всплыло темное имя генерала Франко.
Тот, кто в ту пору следил за газетами, помнит, как беспощадно было потоплено в крови восстание трудового народа Испании, и, наверно, знает, что это такое — Иностранный легион. Войско, сформированное из отпетых авантюристов, воров и бандитов, бежавших из своих стран от суда, готовое жечь, грабить, убивать не разбираясь, где ложь и где правда.
В Испанском Марокко подонки из Иностранного легиона годами вели карательные операции против мирного населения: они стирали с лица земли десятки деревень и получали за это награды. Они казнили женщин и детей и получали повышение в чинах. У этих отщепенцев ни идей, ни чести. Единственное, что они признавали, — деньги и тех, кто платил им. Иностранные наемники были организованы в бандеры — каждая примерно равна батальону. Марокканские наемники, предатели своего народа — в таборы. Только против рабочих Астурии правительство бросило несколько бандер и табор Иностранного легиона. Ими командовал генерал Очоа, пьяница и садист, и подполковник Ягуе, достойный своего генерала.
Там, где прошли бандеры Лопеса Очоа и Ягуе, остались пожарища и трупы. В одной лишь Астурии они замучили свыше четырех тысяч рабочих, их жен, детей.
Я упоминаю об этом, чтобы вы знали, в каких условиях вела свою работу Компартия Испании в то время.
В мою родную Бискайю двинулись семь колонн войск, но им не просто было справиться с шахтерами, которые знали силу сплоченности и привыкли смотреть опасности в лицо.
Здесь восстание началось по призыву социалистической партии и Всеобщего союза трудящихся, но в самые решающие дни социалисты поспешили уйти в подполье. Они оставили восставших без руководства, на произвол судьбы. Вскоре они стали клясться, что снимают с себя ответственность за астурийское восстание. Тогда компартия заявила, что принимает эту ответственность на себя.
В те дни рабочая Бискайя поняла, кто до конца с народом и готов за народное дело на подвиг и на смерть и кто с народом лишь на словах.
Мы были вынуждены часто менять квартиру. Полиция охотилась за матерью и днем и ночью. Когда она выступала по радио из Москвы, ее голос услышали не только рабочие Испании. Услышали и жандармы, и генералы-каратели, и вся фашистская братия. Мать меняла не только квартиру, но и фамилию. В частном доме для приезжих она значилась женой капитана дальнего плавания, который находился в рейсе, а мы, конечно, детьми этого капитана. Однако в самый разгар кровавых репрессий в Астурии мать выехала в этот район.
В Мадриде я встречал беженцев из Овьедо. Они рассказывали о массовых арестах и казнях. Мать выехала именно в Овьедо.
Из-за опасности, которая все время висела над нашей семьей, мы не могли посещать школу, и мать это огорчало. Где бы она ни была — в дороге, на фабриках, на заводах, в тюрьме или на свободе, — она всегда тревожилась о нас. Фашистский нож в двери нашей квартиры лишь незначительный эпизод. Угроза расправы стала неприкрытой, и нужно ли рассказывать, что пришлось пережить матери за нас в те суровые недели и месяцы.
Казалось бы, мне и Амае следовало возвратиться в родной Соморростро. Даже Капитан как-то сказал об этом, а он был парень не робкого десятка. Спокойный, уравновешенный Фернандо неслучайно спросил меня:
— Друг-баск, не скучаешь по землякам?
— Нет, не особенно. Дела в Мадриде много, и некогда скучать.
Он невесело усмехнулся.
— Дела всегда будет много, но временами нелишне и отдохнуть.
Я понял Фернандо и решил посоветоваться с матерью, но она первая заговорила об этом.
— Рубен, — сказала однажды мать, — ты почти взрослый, и я не должна скрывать от тебя, что фашисты не только угрожают: они готовят преступление. Если вы уедете, мне будет трудно без вас, но что же делать? Ты всегда понимал меня и должен понять теперь: вам нужно на время вернуться в Бискайю.
Странное дело, первый человек, о ком я подумал тогда, была Роса. Уехать, значит, расстаться с ней?
— Да, — сказал я матери. — Если так нужно, уедем.
Вероятно, она ожидала от меня протеста, спора, непокорства. Но ведь она сама сказала, что я «почти взрослый». Тут она немного ошибалась: я был уверен, что без «почти».
Мы с Росой дружили, как могут дружить ребята. Мне было приятно пройтись с нею по улице, встречать наших газетчиков, обычно ходивших дружной стайкой, замечать, как весело и удивленно улыбались они, почтительно уступая нам дорогу.
По-прежнему я дружил и с Капитаном, но это была дружба двух деловитых, решительных парней, какими мы и сами себе казались, немного грубоватая, подчас не без резкостей и насмешек. А с Росой другое дело. Романтичная девочка, она мечтала о подвиге для революции. Я узнал, что она много читала, и ее любимые книги — «Спартак», «Как закалялась сталь» стали и моими любимыми книгами. Правда, я прибавил к ним еще и «Остров сокровищ».
Когда я сказал ей, что, наверно, должен буду уехать, и объяснил почему, она задумалась и тут же объявила:
— Хорошо. Я приеду к тебе в Соморростро.
— А как же твои родные?
— Я поеду к своей бабушке к Малагу и по пути заверну к тебе.
— Да знаешь ли ты, где Малага и где Бискайя!
Она засмеялась и внимательно, очень внимательно посмотрела мне в глаза:
— А если бы Бискайя каким-либо чудом очутилась даже в Южной Америке, почему бы мне не заехать в Соморростро?
Ну, Роса! Будто из итальянской песенки: «Что за девчонка!» Только та, что в песенке, особым содержанием не блещет: бойкая, веселая — и весь «багаж», а в Росе я угадывал и ум, и смелости, и, главное, настоящего, надежного друга. Если бы Роса оказалась трусихой, мне было бы нетрудно ее забыть. Если бы она оказалась неженкой — тоже. Мы вместе и одновременно приобщились к борьбе, пусть в малой, очень
малой мере, но с первых дней нашего знакомства у нас появилась общая тайна и она стала выше, значительнее нас самих, священнее всех святынь, тайна общего дела.
Пожалуй, в чем-то Роса была сильнее меня: больше читала, больше думала. Девочки вообще взрослеют быстрее ребят, а она росла в семье учителя, и книга была спутником ее детства. Она любила поэзию, знала много стихов, и, когда я напевал ей шахтерские песни, как сияли ее глаза, задумчивые, синее синьки!
Мы дружили на грани возраста: еще дети в чувствах и уже взрослые в помыслах, в том, что называют целью жизни.
Однажды она сказала:
— Знаешь, Рубен, у меня был брат. Он умер семнадцати лет от тифа. Когда я встречаюсь с тобой, мне временами кажется, что это брат возвратился с дальней-дальней дороги.
Быть братом Росы, подумал я, да ведь это счастье!
И все же чего-то в этом счастье недоставало, и я ответил:
— У меня такое чувство, как будто я знаю тебя десять лет, не меньше! И словно мы никогда не расстанемся, никогда...
Она задумалась и сказала то ли с испугом, то ли удивленно:
— Нет, ты не прав, Рубен, когда говоришь, что мы не расстанемся. Жаль, но мы расстанемся. Что-то должно случиться. Знаешь, я все время в тревожном ожидании. Что-то случится, и я этого очень боюсь.
А потом неожиданно — и как же это было приятно! — она пришла к нам домой. Мы недавно снова сменили квартиру, и только два-три товарища матери, Капитан и Фернандо, знали наш новый адрес, поэтому я очень удивился, что она разыскала нас.
Вечер... осторожный стук в дверь... Я отодвигаю засов, смотрю и не верю — да, она! В руке у нее узелок, в белом платке какие-то свертки, она смущенно спрашивает: «Можно?» — как будто не знает, что ей все можно!
Мать находилась в очередной командировке где-то в Астурии, а мы с Амаей занимались своими делами: она готовила уроки, заданные ей на неделю вперед; мы с Капитаном, который недавно пришел к нам в гости, стряпали ужин и обсуждали последние невеселые события: в этот день полиция схватила одного нашего паренька.
Должен признаться, что, хотя я с детства привык хозяйничать по дому, все же в моих рыночных расчетах не всегда сходились концы с концами. Деньги, которые нам оставляла мать, были заранее строго распределены на молоко, хлеб, на овощи. Но разве она могла предусмотреть, что в соседнем кино станут показывать интересную картину или что мне и сестренке до зарезу захочется мороженого или лимонада? В городе много соблазнов, и чем дольше отсутствовала мать, тем строже приходилось мне экономить. Правда, учитывая собственный опыт, я заранее заготавливал сухари.
Роса появилась у нас в самый разгар нашего хозяйственного кризиса. Хорошо, что Капитан принес немного картофеля и крупы и мы могли с ним придумать какой-то суп. Мы сидели у печки и чистили картошку, когда в дверь постучали. Не выпуская из рук картофелины и ножа, я пошел открывать. И вот она вошла, взглянула на нас и засмеялась.
— Ну, повара, готовите банкетный стол?
— Так точно! весело воскликнул Капитан. — Банкет на четыре персоны с торжественной дегустацией картошки!
Сестренка очень удивилась, что ко мне пришла девочка, почему-то она сразу поняла, что Роса пришла не к моему другу — ко мне.
Они познакомились, но разговор между ними не клеился, быть может потому, что сестренка все время смотрела на гостью во все глаза, а та заметно смущалась.
С нами она чувствовала себя проще и сказала, что с удовольствием поужинает в такой приятной компании. Тут я немного опешил: знала ли она, что такое быть бедным, рассчитывать каждый грош, впрок заготавливать сухари? Капитан словно бы понял меня и подмигнул Росе.
— Только одно условие — не удивляйся, если в супе не обнаружишь мяса, говорят, оно старит, а что касается вина — мы пьем воду. На третье у нас — стихи.
— В таком случае радуйтесь, — улыбнулась Роса, развязала свой узелок и стала выкладывать на стол консервы, сыр, масло, полдюжины пирожных.
Я хотел обидеться: в гости со своим продовольствием?! Но обиды у меня не получилось — она сказала, что ходила к больной подруге и носила ей гостинцы, а подруги дома не оказалось — выздоровела и поспешила на танцы.
Капитан хитро усмехнулся.
— Пожелаем твоей подруге самых воздушных па и подкрепимся за ее здоровье!
Мы весело ужинали, шутили и смеялись, сестренка тоже стала веселой, постепенно ей очень понравилась эта тоненькая, синеглазая девочка. Неожиданно Капитан сказал:
— Смотрю я на вас, Роса и Рубен, смотрю и любуюсь!
Не знаю, как это у него вырвалось, но он испортил нам настроение на добрых двадцать минут, хотя сам этого и не заметил.
Потом я не видел Росу целую неделю, хотел к ней пойти, но не знал адреса. И сколько тревог я пережил: а вдруг она обиделась на Капитана и заодно на меня?
Мать счастливо вернулась из поездки, и сестренка, конечно, рассказала ей по секрету о нашей гостье.
— Что же тут секретного? — удивилась мать. — Я рада, Рубен, что ты дружишь с хорошей девочкой. Будь благороден с нею, вежлив, внимателен и добр... Все это глупые выдумки каких-то хрычей, будто девочкам и мальчикам дружить неприлично.
Мы встретились через неделю, и я сказал Росе, что должен буду уехать.
— Мне будет очень грустно, — призналась она.
— Но ведь мои товарищи — это твои товарищи. Капитан остается в Мадриде. И у тебя есть хорошая подруга, та, которой ты носила гостинцы.
Она ловко надвинула мне на лоб фуражку.
— Детка! Нет у меня никакой подруги. Капитан это сразу понял, а ты? Я знала, что у тебя вот и пришла.
— Откуда узнала?
— Капитан проговорился.
— А потом целую неделю не хотела видеть меня?
Она взяла меня под руку, и мы медленно пошли вдоль улицы.
— Будем откровенны, Рубен. Целую неделю я себя проверяла: смогу ли я не видеть тебя и твоих друзей? У меня бывали девочки. Сколько разговоров, но все... о платьях. Понимаешь ли, жизнь проходит мимо них, такая большая и такая трагическая, и я невольно задала себе вопрос: да неужели я готовлюсь в модистки или экономки? Даже если я стану модисткой или экономкой, разве на этом и замкнется круг моих интересов? Тут я подумала о тебе, о Фернандо, о Капитане. У вас есть главное, что наполняет жизнь, что делает ее такой дорогой, — цель. И как она высока и как благородна, если люди самые бескорыстные и добрые идут ради нее на муки, на смерть. Многое я передумала, Рубен, за это время, и я вижу, что нет, не смогу быть в стороне от вашего дела, потому что оно — и мое. А сегодня мне даже страшно подумать, что ты, возможно, уедешь. Что нам останется? Дружить на расстоянии? Да, будем дружить. Об одном я тебя прошу: где бы ты ни был, помни, что у тебя есть верный друг.
Позднее я писал ей письма: «Мой верный друг!» И получал ответы: «Мой дорогой и верный друг!» Все это было давно и так недавно. Однако в Соморростро я не уехал. Я уехал в Москву. И все произошло очень просто: кто-то думал о нас. Кто-то знал, как трудно матери. Кто эти люди? Конечно, ее товарищи. Когда ее вызвали в ЦК и спросили согласия, она ответила — нет.
— У меня есть единственное личное, — сказала она, — дети.
Но товарищи возразили ей, что и это не личное, что и это дело партии, ее долг — уберечь детей.
Впрочем, о том разговоре в ЦК она рассказала мне значительно позже.
Ночью к нам на квартиру явился лощеный господин. Был он в дорогом костюме, в лакированных туфлях. Брюшко, усики по моде, перстень на пальце и тонкий запах духов. Странно, что мать ему тотчас же открыла и как другу подала руку.
Он церемонно поклонился, недовольно осмотрел квартиру, передернул плечами.
— Сказать откровенно, в моем особняке на Гранвиа обстановка несколько лучше...
Оба они вдруг засмеялись: он снял котелок и швырнул его в угол, вздохнул и расправил плечи так, что затрещали швы модного пиджака. Одна-две секунды, и лощеного франта словно не бывало: к столу подошел простой, веселый человек.
— Ну-ка, показывай своих богатырей. Кто этот молодой человек? Рубен?
Он крепко стиснул мою руку.
— Будем знакомы, товарищ Рубен. У меня к тебе сразу две просьбы. Первая: не удивляйся, что я вошел в ваш дом этаким пижоном. Так нужно. Слышал такое слово — конспирация? И вторая: не протестуй против того, что отныне, — он взглянул на ручные часы, — да, с этой минуты, я твой заботливый папочка, а ты мой воспитанный сынок. Твой папа дон Мигуель Массо — коммерсант, занимается сбытом за границу маслин, апельсинов, лимонов и прочих вкусных даров земли.
Он достал платок, вытер вспотевшее лицо, кивнул мне и спросил серьезно:
— Мальчик, как зовут твоего папу?
Я ответил тоже шутливо:
— Дон Мигуель Массо.
— Чем он занимается?
— Спекулянт, дармоед...
— Нет, это слишком резко! — запротестовал гость.
— Коммерсант, почтенный господин, правоверный католик.
— Отлично! — весело воскликнул гость и хлопнул меня по плечу. — Но как же тебя величают?
— Рубен Массо. Я помогаю папаше в его темных делишках.
Гость тяжело опустился на стул и кивнул матери.
— Специального обучения не требуется. Нынче такая молодежь, что сама обведет тебя вокруг пальца. Что девочка, спит? Не, нужно будить: утром ты сама объяснишь ей все, что нужно.
Он взял меня за руку, усадил рядом с собой.
— Надеюсь, вам понятно, молодой господин Массо зачем эта маскировка? Мы уезжаем за границу. Впереди — Франция, Германия, Польша. Из Варшавы мы направимся в Москву. Но если на границе жандармы услышат фамилию Ибаррури, перед нами тотчас же опустится шлагбаум. Нужно учесть и еще одно обстоятельство: нам предстоит проехать через фашистскую Германию. Здесь, в Мадриде, сотни, если не тысячи, немецких шпионов, которые зорко следят за рабочими вожаками, за их семьями. Конечно, они не упускают из виду и тех, кто направляется за границу. Поэтому ты скажешь знакомым, что уезжаешь к бабушке в Соморостро. Властям уже сообщено, что едем мы, семья Массо, до Парижа. Ясно, сынок?
Я едва перевел дыхание.
— С нами и... Амая?
— Конечно! У господина Мигуеля Массо — двое прелестных деток.
— А в Москве... Кто у нас там?
Веселый папаша снова хлопнул меня по плечу:
— Эх ты, парень, простота! Все у тебя там. Вся Москва!
Вскоре он стал прощаться и еще сказал, что утром мне и Амае будет доставлена одежда. Какая это одежда и зачем она, я толком не понял, но и не расспрашивал мать у нас было много и других забот.
Чуть свет я постучался в каморку Капитана и застал его дома. Он сразу понял, что произошло какое-то важное событие, и спросил встревоженно:
— Обыск?
— Нет, Капитан...
— Арест?
— Да нет же...
— Ясно, фашисты вломились с камнями, с дубинами. От этих подлецов каждый час можно ожидать любых преступлений.
Я взял с него слово чести, что он никому не скажет о нашем секрете, и сообщил свою новость.
Он стал протирать глаза, встряхнулся, внимательно взглянул на меня, ущипнул себя за мочку уха.
— Клянешься?
— Клянусь.
— Истинная правда?
— Руку на огонь.
Тут он обнял меня и поцеловал. Потом заплясал, завертелся по комнате, опрокинул ведро, разбил стакан, разбудил бабушку. Я пытался его унять, но безуспешно. Он переживал эту новость как самую большую личную радость, мой славный друг.
— Пошли, — сказал он решительно. — Сейчас мы застанем ее дома.
— Росу?
— Я думаю, она должна знать.
— Да, только ты и она. И не подумай, будто я нарушаю конспирацию: мать разрешила сообщить вам двоим. Для остальных я уезжаю в Соморростро.
— Тем более идем.
— Разве ты знаешь ее адрес?
Он нахмурил брови.
— С кем ты говоришь, Рубен?
Я не имел ни минуты времени, скоро должны были принести одежду, и мало ли окажется дома перед отъездом дел?
— Ты пойдешь к ней, Капитан, один. Пойдешь и по секрету скажешь, что я уезжаю.
Капитан печально поморщился, покачал головой.
— Я дал тебе слово молчать. Клятва есть клятва. Не могу идти к Росе.
Немного поспорив, мы решили идти ко мне, а дома у нас застали необычно веселого Фернандо. Он раскладывал на столе какие-то вещи, а сестренка примеряла новое платьице, прыгала и визжала от радости.
— Вот она, неразлучная пара! — объявил Фернандо и сунул мне несколько монет. — Марш в парикмахерскую. Прическа с челкой. Заметь: как у всех богатых сынков!
Капитан поддержал мне компанию, и мы оба постриглись под «паинек». Потом я стал примерять бархатный костюмчик с коротенькими, до колен, штанишками, рубашонку, шляпку — все хрупкое, ненадежное неудобное: вот если бы увидели меня сейчас ребята с нашей шахтерской окраины! Конечно, не узнали бы.
Но Капитан и Фернандо смеялись и подавали команду: «Сделай важное лицо», а сестренка визжала от восторга.
— Я видела такого в цирке!
— И что он там делал? — поинтересовался Капитан.
— Глотал живых лягушек и был надутый, как Рубен!
Я согласился, что в довершение этого туалета мне только и недоставало проглотить живую лягушку. И еще недоставало, чтобы кто-нибудь обмахивал меня веером.
— Ничего, потерпишь, а в Москве переоденешься, — утешал меня Фернандо. — Лишь бы доехать благополучно.
Мать не провожала нас на вокзал. Наш спутник хотел, чтобы мы уехали незаметно. В этот последний час, который мы провели с матерью, я не услышал от нее ни строгих наказов, ни назиданий. Казалось, она даже не волновалась. Но это лишь казалось. Минута, назначенная «господином Массо», неумолимо приближалась, и мать спросила:
— Ты понимаешь... ты все понимаешь, Рубен?
— Да, понимаю. Но главное, чтобы ты не переживала.
— Это во многом будет зависеть от вас, — сказала она.
Минут за пять до отправления поезда, когда я, Капитан и Фернандо стояли на перроне, а сестренка и наш «папаша» уже устраивались в купе, кто-то легонько взял меня сзади за плечи. Я обернулся. Роса? Это была она. Мои друзья отошли на два-три шага, и она благодарно кивнула им. Она улыбалась — то тень, то свет мгновенно пробегали по ее лицу, и в синих-пресиних глазах дрожали слезы.
— Спокойно, — сказала она чуть слышно, тяжело переводя дыхание. — Я уже все знаю. Ко мне на минутку забежала Амая и рассказала. Адрес ей дал Капитан. Не подумай, он не нарушил слова. Значит, Москва, Рубен?
Она знакомо зажмурила глаза, словно от резкого солнца:
— Ух, здорово!.. Пиши мне, мой верный друг.
Поезд тронулся, я вскочил на подножку. Капитан и Фернандо успели пожать мне руку. Роса шла рядом с вагоном, все ускоряя шаг, — на лице ее уже не было и оттенка грусти, глаза сияли.
Как же случилось, что я ничего не успел ей сказать? Наверно, растерялся. Да и что можно сказать в такую минуту? Она провожала меня с улыбкой, чтобы я не грустил в дороге. А потом, когда я выглянул в окно и еще раз увидел ее на перроне, она стояла, прислонясь к металлической колонне навеса, закрыв руками лицо, Мои друзья уже спешили к ней...
Так я покинул родину с предчувствием первой любви, с грустью и радостью одновременно, с твердой уверенностью, что скоро вернусь.
В нашем вагоне ехали офицеры. Всю дорогу они пьянствовали и горланили фашистские песни. На границе, где они сошли, какой-то военный приветствовал их по-фашистски. Франция казалась притихшей и растерянной. В Германии на каждом шагу чернела свастика, трепыхалась на флагах, будто огромное насекомое карабкалось по стенам домов... А у меня была уверенность, что Испания не сдастся. И что я скоро вернусь к друзьям — к Фернандо, Капитану, Росе... И я вернулся.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вчера мой молодой учитель похвалил меня, — записал Клавич, — Я прилежно занимаюсь испанским. В моем словаре уже наберется до трехсот слов. В четырех фразах, которые я самостоятельно составил, Рубен сделал лишь одну поправку. А славная Аня удивилась: «Зачем вам это нужно, испанский?» Я ей ответил, что хочу прочитать «Дон-Кихота» в оригинале. Она засмеялась: «Да, между вами есть что-то общее». — «Спасибо, — сказал я Ане. — Алонзо был добрым человеком. Это комплимент».
Растет и наш Конспект, и я с интересом перечитываю записанное. Сегодня я задал Рубену добрых три дюжины вопросов, но здесь я их не повторю — ведь меня больше занимают его ответы. Он говорил:
— Я думаю, что солдат вступает в войну задолго до первого боя, до той минуты, когда над его головой засвистят пули. Фашистский мятеж был поднят в Испанском Марокко в ночь с семнадцатого на восемнадцатое июля 1936 года. Уже восемнадцатого июля он перебросился в Испанию. За оружие взялся весь народ, и каждый испанец знал, с кем он. Я находился в Москве и днем восемнадцатого июля шел на автозавод, во вторую смену, в инструментальный цех, где тогда работал. На Пушкинской площади у репродуктора стояла толпа. Она все росла. Я подошел к ней, стал слушать, но сначала не мог понять, почему лица людей так угрюмы и тревожны?
Я знал, что недавно, семнадцатого февраля, в Испании на выборах в Кортесы победу одержал Народный фронт. Это была великая победа. Еще в октябре 1934 года за нее сложили головы сотни коммунистов. Знал, что в тюрьмах Испании томилось свыше тридцати тысяч политических заключенных — участников подавленного восстания тридцать четвертого года. Сразу же после победы народа толпы двинулись к тюрьмам, взломали ворота, разогнали тюремщиков и освободили заключенных. Огромные, счастливые события произошли на моей родине за год, который я прожил в Москве. И вот — мятеж...
Не помню, как добрался до завода. Передо мною шумели московские улицы, а мне казалось, что это улицы Мадрида. Я приехал в Москву в мае 1935 года и полюбил ее не меньше, чем город моей юности — Мадрид. На автозаводе, куда меня приняли учеником слесаря, славные рабочие парни и девушки стали моими друзьями. Мы вместе изучали столицу, забирались в самые дальние уголки, посещали музеи, выставки, театры, библиотеки, исторические места. Я и сам удивлялся, как быстро научился свободно говорить по-русски. Жил я в семье старых большевиков — Пантелеймона Николаевича и Ольги Борисовны Лепешинских, и, кроме матери, не знаю более родных людей.
Я мечтал стать механиком. Шутка ли, вернуться в родную Бискайю механиком, знатоком сложных машин, доказать, что мы, баски, можем не только седлать коней, но и управлять любым, самым сложным двигателем!
О своих планах я написал сестренке Амае — она воспитывалась в детдоме в Иванове. Ее ответ был серьезен и деловит. Свое письмо она заканчивала командой: «Так держать!»
Но теперь, после той радиопередачи, все это кончилось, все планы отошли в сторону, и остался лишь один — поскорее вернуться на родину.
Я пошел в заводской комитет комсомола. Бойкий паренек, секретарь, выслушал меня сочувственно:
— Есть у нас разные путевки — в Комсомольск- на-Амуре, в Хибиногорск, на Турксиб и даже на зимовку на Землю Франца-Иосифа. Но, поверь мне, не было и нет путевки в Мадрид или в твою Бискайю.
Мы помолчали, и не я — он меня спросил:
— Что же будем делать?
Впрочем, сам он и ответил:
— Ясно. Едем в Центральный Комитет комсомола.
А в ЦК такой же молодой задумчивый паренек, выслушав нас, сказал:
— Чувства твои, товарищ Рубен, понятны. Однако ты уверен, что сможешь принести заметную пользу армии республики?
Я обиделся.
— За республику я готов умереть.
— Верю, — спокойно заметил мой собеседник. — Но умереть без пользы что за смысл? И для республики и для тебя? Постой, не горячись, ты, может, летчик? Нет? Жаль, Испанской республике очень нужны военные летчики. Может, ты танкист? Может, служил в пехоте? Послушай, дружище, а ведь воевать-то нужно умеючи. Нужно не только самому уметь сражаться, но и других обучать. Допустим, что сегодня ты выедешь в Мадрид. Приехал, и что будешь делать? Конечно, учиться, военную специальность осваивать? Но разве у нас меньше возможностей для этого? В Испании началась гражданская война, генералы, помещики, буржуазия думали, что захватят власть одним махом, но не вышло. И война эта продлится не одну неделю, не один месяц. Ты будешь нужен там, товарищ Рубен, и очень нужен, но... с определенной военной подготовкой.
Я не знал, что ему ответить, — он был прав. Видя, что я немного поостыл, он спросил дружески:
— Кем хочешь стать? Летчиком? Танкистом? Артиллеристом? Командиром пехотного подразделения! Может, хочешь на флот?
Я ответил не колеблясь:
— Летчиком.
Он встал и подал мне руку, задумчивый парнишка с первым пушком усов.
— Добро. Так и запишем: летчиком.
Все это было для меня невероятно: и его обещание и уверенность. Знал бы он, что значило стать военным летчиком в Испании! Самый привилегированный род войск, сливки военной касты, о которой простому солдату и не мечтать. Впрочем, весь офицерский состав испанской армии был кастовым, и не случайно эти сынки помещиков, дворянчики, отпрыски «знатных» родов — все оказались в фашистском стане.
Через два дня я выехал в Сталинград, в авиачасть. Мои друзья, а было их не менее трех десятков, и сам бойкий паренек — комсомольский секретарь завода — проводили меня на вокзал.
Учился я, что называется дни и ночи, полюбил оружие, отлично освоил пулемет. Но главное, конечно, машина. Спросите у любого пилота, какие чувства испытывал он, когда ему впервые разрешили самостоятельный полет?
Учебный воздушный бой я провел хорошо и сам знал это. Но меня все больше томило нетерпение. Военные сводки из Испании звучали все тревожней.
Неожиданно меня вызвала военно-врачебная комиссия; трое седовласых докторов долго ощупывали и выслушивали меня.
— Да, — неопределенно сказал самый старший доктор и направил меня к окулисту.
Нельзя сказать, чтобы я жаловался на зрение. Правда, глаза иногда побаливали, а осенью, в дожди, я нечетко различал цвет. И нужно же было случиться, что именно теперь, то ли от бессонницы, то ли от ненастной погоды, в самый решающий период учебы этот дефект усилился.
Старик окулист недолго меня испытывал и тут же вынес приговор:
— Летать вы, конечно, будете, — сказал он, но... пассажиром.
Взлет и падение! Отличная оценка за учебный воздушный бой, но... «штопор» у окулиста! Не обидно ли? Все же я не унывал. Время не было потеряно напрасно. Республиканской армии требовались, конечно, и пулеметчики.
Из военной школы летчиков я возвратился в Москву комсомольцем и явился к тому задумчивому пареньку в ЦК. Почему-то ожидал, что он снова станет меня отговаривать, скажет о трудной, опасной дороге, о том, что не просто раздобыть визу, найдет и другие причины, но он поздоровался и сказал:
— Теперь можешь ехать. Должен ехать. Завидую тебе, Рубен.
А дома, у Лепешинских, меня ждали пять писем: от матери, от Росы, от Капитана, Фернандо и братьев Мартинес. Все они были уверены, что я приеду.
Через неделю я сошел с самолета на землю Испании. Новый адрес матери был мне известен и, отлично зная город, я без труда нашел ее квартиру. Но матери дома не оказалось, а пожилая соседка даже удивилась моему вопросу:
— Где ее искать? Ну конечно же, на фронте! Она все время на фронте, и разве скажешь, где она была вчера, где будет завтра?
Я спустился по ступенькам лестницы и присел на крылечке, выходившем на пустынный двор. На душе было и тревожно и грустно, словно я был в чем-то виноват. В том ли, что уехал, а мать здесь постоянно рисковала жизнью? Но мой отъезд был исполнением ее воли, и мать, в свою очередь, подчинялась решению старших товарищей. По крайней мере я не терял времени и возвратился пулеметчиком. Теперь — только в полк, в роту, чтобы за пулеметом поскорее наверстать упущенные месяцы. Другого решения у меня и не могло быть, я возвратился сражаться. Так я сидел на ступеньке, немного успокоившись, легко решив свою судьбу, еще не зная, что вступить в полк и оказаться на передовой — дело для парня моих лет не такое уж простое. Задумавшись, я не расслышал шагов, но вот легкие теплые руки легли на мои плечи. Я обернулся:
— Мама...
Как же она изменилась за это время! Лицо загорелое, обветренное, резкие черточки прорезали лоб, пролегли по углам губ; в черной пряди волос — нити седины. На ней военная форма; на поясе — тяжелая кобура пистолета. А как сияют ее глаза! Мы долго не можем разнять наших рук и не можем сказать друг другу ни слова.
Порывисто, глубоко вздохнув, она заговаривает первая:
— Мой мальчик... Ну, здравствуй! Я очень спешила домой, ведь жду тебя уже целую неделю! Что Амая?..
— Писала мне из детдома письма. Много писем. Узнав, что я стал военным, скомандовала: «Так держать!»
Глаза матери улыбались, знакомый признак радости — живые солнечные искорки сияли в них, — она все гладила мою руку, но резкие черточки по углам ее губ не исчезли, нет, стали еще резче.
Ее новая квартира оказалась более чем скромной: письменный стол, кровать, диван, несколько стульев, телефон на подоконнике, карта Испании на всю стену. На карте синие и красные стрелы — направление вражеских ударов и наших контратак. И мне нисколько не показалось странным, что после долгой разлуки, в эти первые, волнующие минуты такой желанной встречи мы заговорили не о наших семейных делах, нет, о движении красных и синих стрел, крутых и упрямых.
Потом мы сидели за столом, слушая дальние перекаты канонады, и я сказал ей, что намерен немедля идти на фронт.
Она, конечно, ждала от меня именно такого решения.
— Да, — сказала она, — но учти: тысячи юношей рвутся на передовую, а у нас мало оружия.
— Я отлично владею пулеметом. Неужели для меня не найдется пулемета? Я хотел бы вступить в Пятый полк Листера.
Мать покачала головой:
— Я не стану просить за тебя.
— Почему?
— Хотя бы потому, что ты должен избегать всякого предпочтения. Сын Пасионарии, ты должен стать рядовым солдатом, а если чем и выделяться — только отвагой. Но и в рядовые тебя могут не взять из-за возраста. Тебе шестнадцать. Листер категорически против набора малолеток. Не забывай, что республике приходится сражаться против регулярных итальянских дивизий, против немецко-фашистских войск. У них танки, авиация, мощная артиллерия. Такую силу мальчишеской лихостью не остановишь. Нужны хорошо обученные, отлично вооруженные солдаты. Это чудо, сын, что республика оказалась способной отражать такой натиск. Я часто задумываюсь над этим чудом, в чем секрет изумительной стойкости наших? И у меня один ответ: в том, что война и революция в Испании соединились воедино, победа над фашизмом означает и победу революционных преобразований. Но борьба будет долгой, и тебя где-то ждет твой боевой рубеж.
— Он ждет меня, мама, уже сегодня.
Она спокойно посмотрела мне в глаза.
— Я не удерживаю. Не имею права. И сейчас, в эти минуты, когда мы с тобой говорим, за республику гибнут десятки и десятки наших воинов. У них такие же матери, как я.
Теперь мне стало легче. «Завтра», — сказал я себе.
А утром я без особого труда разыскал Капитана. Как возмужал мой неспокойный друг! И сколько решительности во взгляде и как лихо вьется огненный чуб! Военная форма ладно облегает статную фигуру, по легким, уверенным движениям угадывается заправский спортсмен.
— Не удивляйся, баск, что встретились не на передовой, — роняет он с улыбкой. — Здесь, в Мадриде, тоже проходит, фронт. Слышал о «пятой колонне»? Запомнит она меня!
Мое намерение лично обратиться к Листеру с просьбой о зачислении в Пятый полк Капитан одобрил.
— Что ты потеряешь? Попытка не пытка. А Листер сегодня вечером наверняка будет на большом собрании в театре.
Я с нетерпением ждал вечера. И вот подъезд театра. Двое военных неторопливо поднимаются по лестнице. Капитан шепчет:
— Это сам Листер... Смелее, баск!
Мимо меня проходит коренастый человек в распахнутой кожаной тужурке, смуглый, с крупными чертами лица, с веселым, внимательным взглядом.
— Разрешите обратиться, товарищ командир Пятого полка?
Он прикасается рукой к козырьку фуражки.
— Слушаю, молодой человек.
— Я хотел бы вступить в Пятый полк.
Он смотрит на меня с улыбкой и переглядывается со своим спутником, молодым, светлолицым.
— Еще один доброволец, Павлито! Какой он сегодня по очереди?
И Павлито вдруг отвечает по-русски:
— Ей-богу, наверно, двухсотый!
Я сразу же перехожу на русский язык:
— Знаете, я так спешил из Москвы!..
Они удивленно переглядываются, и Листер спрашивает тоже по-русски:
Спешил... из Москвы? Да как же тебя сюда занесло, каким ветром?
Мы вошли в фойе театра. В зале шумело собрание. Там выступали ораторы от разных партий — левых республиканцев, коммунистов, социалистов, анархистов. Речь шла о защите республики.
— Рассказывай, какими судьбами, — сказал Листер, по-прежнему весело разглядывая меня. — Парня из Москвы не каждый день встретишь.
Я коротко доложил, как уехал, учился, приехал.
— Значит, мы оба с тобой немного москвичи» — сказал он. — Я на строительстве первой очереди Московского метро работал проходчиком. От королевских милостей пришлось из Испании бежать.
Он обернулся к спутнику:
— Знакомься. Советский офицер товарищ Родимцев. Наших воинов обучает: кавалерист, пулеметчик. По-испански зовем его товарищ Павлито.
Листер усмехнулся, глаза его блестели.
— Слышал русскую «Барыню»? Павлито может пулеметом ее сыграть.
Родимцев засмеялся и крепко пожал мне руку.
— Относительно зачисления в полк, — сказал он, — немного повремени. Людей у нас достаточно, а вот оружия не хватает. Но я тебя запомню: через неделю-другую, быть может, зачислим в полк.
Листер спросил серьезно:
— Не обижаешься? Ну правильно. Твое — за тобой.
Мы остановились в проходе, и я расслышал, как по задним рядам прокатился шум, многие обернулись к нам, некоторые поспешно встали. Здоровенный парень с забинтованной головой крикнул:
— Вива Листер!.. Вива камарада Листер!
Тут и все, кто присутствовал в зале, повскакивали с мест, обернулись к нам.
— Вива Листер!
Я не знал, что этого скромного человека в кожанке, бывшего проходчика Московского метро, так любят мадридцы. Чуть ли не силой его потащили на сцену.
— Прощай, паренек, и не обижайся, — наклонясь ко мне, сказал он. — Взял бы тебя и сегодня, но в таком случае завтра ко мне все школьники Мадрида и его окрестностей явятся: почему лишь одному такое предпочтение?
Павлито — Родимцев усадил меня рядом с собой и, продолжая разговор, сказал:
— Только не унывать. Дел — непочатая гора. Знаешь русский «максим»? Отлично. Я сам приму у тебя экзамен, и, возможно, на передовой.
Но и через день и через неделю разыскать товарища Павлито в городе я не смог: в гостинице «Палас», где он жил, мне сказали, что он находится на фронте, под Бриуэгой. Впрочем, в эти беспокойные дни я не сидел без дела: доставлял после бомбежек в госпиталь раненых, тушил на крышах «зажигалки», дважды сопровождал группы иностранных журналистов из коммунистических газет. За неделю с матерью виделся лишь один раз и был уверен, что виноват перед нею, но при встрече она сказала:
— Извини меня, сын, такая горячая пора, что некогда побывать дома. Сегодня я случайно встретила Капитана...
— И он рассказал тебе...
— Что ты беседовал с Листером.
— Секрета в этом нет, а Капитан повторял мне: «Гордись, сам Листер уделил тебе время!» В тот вечер я познакомился и с русским офицером товарищем Павлито.
— Знакома, — сказала мать. — Он создал у нас курсы пулеметчиков, и теперь об этих ребятах с похвалой говорят: «Парни из школы Павлито!» Кстати, я получила на его имя письмо из Москвы и утром посылаю нарочного, с которым обычно едет сопровождающий...
Я вскочил из-за стола, опрокинув стул.
— Пошли с ним меня!
Она спокойно согласилась:
— Возьмешь мою винтовку. Дорога опасная. Не думала я, Рубен, что мне, матери, придется вручать тебе оружие.
Утром мы мчались с нарочным на потрепанном грузовичке по изрытой бомбами дороге на Бриуэгу. Нарочный — смуглый, широкоплечий парень с марлевой повязкой под беретом так уверенно вел машину, словно знал каждую рытвину на шоссе. Он сказал мне, что до войны работал на такси, а за военное время это у него пятая машина — четыре погибли от снарядов и бомб противника, и он сам удивлялся, что уцелел.
— Может, сегодня, — заметил он, смеясь, — придется нам шестую машину добывать?
В то утро в бой под Бриуэгой вступила 12-я интернациональная бригада генерала Лукача. Батальон имени Гарибальди, в котором против итальянских фашистов сражались итальянские коммунисты, наступал на Бриуэгу вдоль шоссе. Он был остановлен массированным огнем фашистской артиллерии, пехотой и танками... Мы прибыли к переднему краю в разгар боя и, оставив машину в отлогом овражке, стали пробираться к указанному нам командному пункту Листера на высотке.
Дорога действительно была опасной, снаряды рвались вокруг КП, и над высоткой тучей клубилась пыль. Последние метры до окопа мы одолели ползком. Родимцева я узнал издали, он был черен от пыли; на склоне высотки снова грянул разрыв снаряда, но Павлито даже не обернулся: он держал в руке планшет и указывал пальцем крепышу офицеру какую-то точку на карте. Этот крепыш и был Энрике Листер. Третьим здесь был адъютант Листера, молоденький, подвижной расторопный сержант. Он резко обернулся к нам и сделал знак рукой: мол, не мешайте. Сквозь грохот артобстрела я услышал спокойный голос Павлито:
— Видишь развилку дорог? Наши танкисты должны взять ее с ходу... Тут третья итальянская дивизия «Черные перья» пытается остановить наших. Дай команду, чтобы все эти петушиные перья — под огонь...
Листер взял трубку телефона. Павлито заметил меня и нарочного и недовольно сдвинул брови:
— Кто разрешил вам сюда явиться?..
Нарочный отдал честь и протянул ему пакет:
— Из Москвы. Срочно.
Павлито рванул край пакета, быстро пробежал глазами письмо. Черты его лица смягчились.
— Спасибо. Можете идти... — Лишь теперь он взглянул на меня и узнал: — А, настырливый, и ты здесь? Ну что ж, я свое слово помню. На днях тебя вызовут. Будешь разведчиком. — Он заглянул мне в глаза внимательно и строго. — Знай, это всегда на грани...
— Спасибо, товарищ Павлито!..
Через несколько минут мы выбрались к нашей машине, в овражек. А вечером, когда мы возвратились в Мадрид, город ликовал. Здесь уже было известно, что в восемнадцать ноль-ноль с «Черными перьями» было покончено. Воины Лукача, наши летчики и танкисты уничтожили на этом участке фронта все итальянские танки до единого. Опасаясь окончательного разгрома, фашистский генерал Манчини поспешно отводил остатки своих войск на юг. Это была победа — одна из самых славных побед республики, и мне посчастливилось какие-то минуты находиться с теми людьми, которые держали в своих руках ключ от победы, и видеть, как уверенно и умело они повернули этот ключ. Воинство Муссолини в Испании насчитывало сто пятьдесят тысяч человек. Воинство Гитлера — тоже десятки тысяч. По крайней мере после падения республики он наградил двадцать пять тысяч своих головорезов, участников испанской войны, медалями и крестами. Значит, не случайно недавно, в траншее у Березины, мне думалось, что Борисов и Бриуэга — на одном рубеже.
ЗЕМЛЯК МИШО
...Сегодня Рубен получил письмо, — записал Клавич. — Я еще не видел его таким взволнованным. Конверт ему подала санитарка Аня, он взял его, вздрогнул и опустил.
— Чудо... Ведь это же чудо!
Аня не поняла.
— Самый обыкновенный конверт...
— Нет, это чудо, Аня! — почти закричал он и стал аккуратно распечатывать письмо, видимо боясь повредить его непослушными руками.
Письмо было очень краткое, но он читал его и перечитывал добрых полчаса, а потом передал мне:
— От Росы.
«Мой верный друг! — писала она. — Эта весточка найдет тебя, потому что я верю в счастье. Ты тоже веришь в счастье, пусть же она тебя найдет! Помни, что я с тобой. Многое в жизни переменилось, но я с тобой. Верь, что и наяву и во сне я — рядом. Мы люди одной судьбы и одного пути, и нет ничего благороднее и выше нашего дела. Мы встретимся, иначе и не может быть. Даже если пройдут месяцы и годы, они не разлучат нас, мой верный друг.
Роса»
— Обратите, Янка, внимание на конверт, — заметил Рубен. — На нем почтовые штемпели Парижа, Стокгольма, Москвы и Уфы. Нетрудно догадаться, что кто-то из друзей Росы ездил во Францию и оттуда отправил письмо. Адрес написан на авось: «Москва, редакция «Огонек», передать товарищу Рубену Ибаррури».
Значит, сначала письмо прибыло в Стокгольм, затем в Москву, а в редакции нашлись добрые люди, навели справку и переслали его Лепешинским. Пантелеймон Николаевич, пожалуй, удивился: «Смотри-ка, Оля, друзья разыскивают нашего лейтенанта!» — заглядывать в конверт он, конечно, не стал и подклеил адрес госпиталя... Право, друг мой, следует сложить гимн почте!
Знаю, теперь вы не успокоитесь, пока не расскажу. Что ж, буду нести добровольное бремя. Сами вы больше молчите, а меня заставляете говорить. Впрочем, если прислушаться — все палаты разговорами гудят: люди вспоминают, взвешивают, обсуждают. Теперь я уверен, что нигде столько не делятся воспоминаниями, как в госпиталях. Почему бы это? Наверное, потому что в госпитале человек подводив своего рода итоговую черту? До окончательного итога нам, конечно, далековато, а все же определенный этап закончен и начинается новый... Несколько строчек, а сколько воспоминаний! Я думаю о ней и вижу Мадрид, и все они словно вчера — встречи того необыкновенного, незабываемого времени.
...Тут я заметил Рубену, — пишет Клавич, что каждый час жизни полон необыкновенного. Мы только не примечаем этого в автоматизме дней. Потом мы оглядываемся и видим, что многое хорошее уже прошло. Но человеку свойственно всегда желать лучшего, поэтому мы и ценим опыт других. Я не был в Испании, но... словно был. Интересно, как это происходит в человеческих тайниках? Книга, прочитанная мною, становится частью моей жизни. Жизнь, рассказанная другом, неуловимо соединяется с моей. Помните, Рубен, мы простились с Росой на перроне? Если позволите, я ей тоже напишу. Но между тем часом, когда из Мадрида отошел ваш поезд, и письмом, которое вы получили сегодня, были еще встречи? Ваши, конечно, встречи и... чуточку мои?
— Мы вместе подумаем, Клавич, что вы напишете Росе и когда. Может случиться... Все может случиться на войне. Например? Ну, вдруг я буду убит. Если вы услышите об этом — тогда напишите Росе. Но давайте лучше говорить о любви, чем о смерти. Презираю смерть.
Рубен задумался:
— Так говорил Капитан. Он остался в заштатном французском городке Аржелесе. Это были его последние слова. Что ж, давайте, Янка, подведем итоговую черту под этими далекими событиями: нам скоро придется расстаться, а вы так и не узнали о судьбах моих друзей. Да, конечно, я помню, как мы простились на перроне и как она бежала рядом с вагонами, остановилась и протянула руку, словно ища опоры, а Фернандо и Капитан спешили к ней. Минута разлуки, наверно, всегда запоминается, и я хорошо понимал, что крепко, навсегда связан с этими людьми, а с нею больше чем дружбой.
Из Москвы и из школы летчиков я писал и Росе и Капитану и получал от них целые послания. Капитан называл свои письма отчетами. «Шлю тебе четвертый отчет...» Он присылал вырезки из газет, и мне были известны все новости Мадрида.
Роса писала о своих школьных заботах и делах, а в последнем письме сообщила, что принята на курсы военных санитарок.
Рядовые маленькие новости, но мне они казались огромными, и, когда на автозаводе я читал эти письма ребятам из нашего цеха, кто-то из них заметил откровенно:
— Пишут о разном, но... кличут тебя.
Вы, Клавич, не бывали вдали от родины и вряд ли знаете, как она зовет. Помню, у нас в заводском клубе шел вечер молодежи, и два паренька в костюмах матадоров отлично выполнили испанский танец — все аплодировали им, вызывали на «бис», кричали и смеялись, а мне хотелось заплакать... ну, почему?
Может, потому, что я видел этот танец и в Соморростро и в Мадриде, знал его с детства и любил, а тут сама родина мелькнула передо мной, музыкой прозвучала?
Я уже говорил вам, что как будто живу двумя жизнями: я здесь и одновременно далеко отсюда, у себя дома. Родная мне она, русская земля, но трижды родная та, испанская: и древний Мадрид, и железные горы Бискайи, суровый и милый шахтерский край. У меня было чувство вины перед родиной и друзьями, хотя я уехал не по своей воле. И была наивная уверенность, что чуть ли не с аэродрома, стоит лишь пожелать, я буду направлен на передовую. После встречи с матерью я понял: было не так-то просто оказаться на передовой — армия республики оберегала нас, подростков, не принимая во внимание наш пыл. Но ведь у меня был еще славный друг — Капитан, и, к счастью, утром я застал его дома.
Я уже рассказывал вам о Капитане, он был старше меня на два года, внешне далеко не красавец, рыжий, веснушчатый, с озорной физиономией, но большая умница и смельчак, отличный товарищ, добрый и верный в дружбе. Мальчик с мадридской улицы, он с детских лет стал самостоятельным, продавал газеты, чистил обувь, подносил у гостиниц чемоданы, был проводником у туристов и с ребяческих лет ненавидел богачей и полицейских.
Казалось, Капитан не удивился моему возвращению, как будто я отлучился на короткое время, и первое, о чем спросил, — о своих письмах.
— Ну что, мои письма все получены?
Потом он заставил меня помыться, позавтракать с ним и сказал, что все расспросы мы оставим на ночь, а сейчас пойдем в город.
Мы возвратились в маленькую каморку Капитана в полночь. Я не спешил домой, так как мать снова уехала на фронт на двое суток. Теперь Капитан обитал в каморке один, его тихой бабушки уже не было в живых. Как добрый хозяин, он разогрел кофе, и наша беседа продолжалась до утра. Я узнал подробности сражений в Авиле, Сеговии, Сориа — Капитан побывал на этих участках фронта. Побывал он и в Толедо и отлично знал обстановку под Мадридом — в знаменитом Пятом полку у него было много друзей. Одной из Стальных рот в полку командовал наш Фернандо.
— Ты понимаешь, что это значит — командовать Стальной ротой Пятого полка? — увлеченно спрашивал Капитан, и глаза его блестели. — Не знаешь? Тогда послушай песню, которую поет весь Мадрид:
Идут Стальные роты,
И песня ведет их строй.
Из крепкой стали
Их бури сковали
В грозе боевой...
Если народ сложил эту песню, значит Стальные роты заслужили такой чести. Слушай...
И Капитан браво исполнил припев:
Идут Стальные роты
На битву за край родной
В победный бой.
Вот, друг-баск, песня о нашем Фернандо, о сотнях беззаветных, которые сражаются в Стальных ротах. Кстати, это песня и о Росе. Да, да, ты не ослышался, четыре дня назад она отбыла на передовую.
До этой минуты я не спрашивал о Росе, боялся спросить: вдруг с нею что-нибудь случилось? Я был уверен, что Капитан сам заговорит о ней, но такого сообщения, конечно, не ожидал.
— И почти ребенка зачислили в полк?
Капитан нахмурился, по старой привычке цвиркнул через плечо.
— Я полагал, что ты больше ее уважаешь.
— Друг мой железный, я люблю ее!
— Ее очень любят и родные, — сказал Капитан. — Это понятно — единственная дочь. Но они проводили ее в полк без слезинки.
Значит, она подготовила их, сумела подготовить.
Капитан взъерошил мне волосы.
— Мальчик! Их подготовили бомбы, которые каждую ночь фашисты сбрасывали на Мадрид. На фронте нужны санитарки. Она избрала правильный путь, окончила курсы военных санитарок и теперь очень нужна там, на передовой.
Видел ли Капитан, как всего меня встряхнуло и взбудоражило это его спокойное сообщение? Наверно, видел и понимал: он был проницательный малый.
— Но теперь, — заметил он, — у тебя возникнет законный вопрос: что же я отсиживаюсь в этой конуре, если все дружки и даже маленькая Роса на фронте? Я отвечу: без важного дела я здесь, конечно, не сидел бы.
— Вот оно что! Раньше между нами не было секретов.
Он сидел напротив за столом и смотрел мне в глаза.
— Это очень важно. Ты даешь слово?
— Руку на огонь.
— Больше...
— Отвечаю честью и жизнью.
— Годится, — сказал Капитан, оглянулся на двери, на окно и заговорил совсем тихо: — Ты что-нибудь слышал о «пятой колонне»?
Я признался, что слышал, но мало.
— Так знай, что в городе притаились фашисты. Они готовили выступления, взрывы, поджоги, убийства и уже, пожалуй, могли бы наделать беды, но мы сумели обезвредить несколько крупных банд. Эта работа не из легких: пулю можно ожидать на каждом шагу.
Я изучил город не хуже главного архитектора. Впрочем, и он не знает тех закоулков, подвалов и трущоб, в которых я побывал. Не думал, что это так пригодится.
Капитан выдвинул ящик и положил на стол тяжелый парабеллум.
— Мой трофей. Добыт в открытой схватке. Но должен тебе сказать, что, если бы я выложил перед тобой все оружие, которое мы отобрали у фашистов, потребовались бы грузовики. Я напал на след и открыл склад оружия в подвалах церкви. Второй — в музыкальном магазине: рояли, полные гранат. Третий... ну, о третьем пока ничего не скажу, хотя уверен, что мы и его накроем.
Он засмеялся и, совсем уже как мальчишка, цвиркнул сквозь зубы.
— Можешь поздравить! Числюсь в официальном списке. Значит, досадил собакам Франко: заочно приговорен к смерти, и этот приговор они даже не поленились напечатать. Впрочем, друг-баск, нам с тобой на них наплевать. Пей кофе, и давай обсудим твои дела.
Я сказал, что у меня два неотложных дела: снова увидеть мать, Росу и уехать на фронт.
Капитан обещал узнать, где именно находится Роса.
В эти дни я познакомился с расторопным фотографом из «Паласа» — Антонио, и незаметно мы подружились. Антонио мечтал побывать в Москве, при каждой встрече засыпал меня десятками вопросов и шумно изумлялся самым простым вещам. Его вопросы были подчас диковинными и могли бы любого ошарашить. Он спрашивал: правда ли, что в Москве есть колокол величиной с океанский пароход? Или правда, что в Москве и фотографы — члены профсоюза? Или: из какого дерева построена Москва — из красного?
Ему очень нравились русские песни, и он тщательно записывал их в книжечку, стараясь запомнить мотив. Все было бы хорошо: парень бедовый, любознательный, веселый, с высшими офицерами нашей армии знаком, обещал и меня познакомить с самим Модесто Гильото, но песнями едва меня не доконал: пой, и никаких возражений.
Как-то мы сидели в пустом холле второго этажа, я напевал ему «Матроса Железняка» и тут же переводил на испанский. Антонио записывал, переспрашивая каждое слово. Мы не заметили, что неподалеку от нас остановился незнакомый человек и стал слушать.
— Ты неплохо переводишь, мальчик, сказал он по-русски, — только слово «махновцы» объясняешь неточно: махновцы — это не дворяне, это бандиты, причинившие много бед в период гражданской воины на Украине.
— Я чувствовал эту неточность, — соврал Антонио, встал, улыбнулся своей безмятежной улыбкой, пожал незнакомцу руку и предложил ему сфотографироваться на память.
Незнакомец покачал головой, расстегнул полу пиджака и показал фотоаппарат.
— Я видел тебя, мальчик, здесь, в «Паласе». Когда ты научился так свободно говорить по-русски?
Я сказал, что неделю назад вернулся из Москвы; незнакомец заметно обрадовался:
— Ну, если так — пойдем ко мне в номер, поговорим подробнее!
Незнакомец был моложав, с лицом смуглым и несколько бледным; неторопливый, очень внимательный в разговоре, он имел привычку поворачиваться к собеседнику всем корпусом, и поэтому его движения казались связанными. Он носил роговые очки, за которыми блестели веселые, умные глаза, а улыбка у него была по-детски радостная. Расспрашивал меня очень подробно, вздыхая, вспоминал Москву и вдруг сказал, что знаком с моей матерью.
— Значит, рвешься на фронт? — спросил он деловито. Одобряю. Но... как посмотрит на это мать?
— Конечно, отпустит.
— Хорошо, — сказал он. — Это очень важный вопрос — договорись. Я познакомлю тебя с одним командиром, и он, надеюсь, возьмет тебя в свою часть.
Я признался Мишо — так звали моего нового знакомого, — что лично обращался и к Листеру и к Павлито Родимцеву. Он удивленно покачал головой:
— О, высоко ты забрался! И что же? Сказали, что молод?
— Все же товарищ Павлито обещал.
— Ладно, — сказал Мишо. — Мы вместе с товарищем Павлито наверняка тебя пристроим, будешь воевать.
На столе зазвонил телефон. Мишо взял трубку, сказал по-немецки:
— Приветствую. Заходи.
Он кивнул на телефон:
— Немец из потомственной офицерской семьи. Командир батальона в мировую войну. Сейчас сражается в Интернациональной бригаде. Поищи в библиотеке его книги, это Людвиг Ренн.
Я сказал, что читал книгу Ренна — «Война». Он одобрительно кивнул, взял меня за руку, усадил к столу.
— Людвигу будет приятно встретить в Мадриде своего читателя.
Ренн был очень высок ростом, имел завидную выправку, ходил по-солдатски, печатая шаг. Он взял под козырек пристукнул каблуками, снял перчатку и дружески подал руку Мишо. Мне он кивнул, зорко взглянув через очки серыми спокойными глазами.
— Это хороший парень, — сказал по-немецки Мишо. — Рубен читал твою «Войну».
Ренн поправил очки, потрогал маленькие подстриженные усы.
— Я думаю, камарада Рубен, — сказал он по-испански, с трудом подбирая слова и пожимая мне руку, — что войну вам приходится изучать не по романам. Очень похоже, что сейчас мы участвуем в прелюдии, только в прелюдии очень большой войны. Я написал два романа: «Война» и «После войны», а теперь, пожалуй, следует взяться за третий, со зловещим названием — «Перед большой войной»...
В самом деле, — продолжал Ренн, уже обращаясь к Мишо. — Зачем понадобилось Гитлеру посылать сюда своих головорезов? Сколько их? Тысячи. Зачем Муссолини направляет сюда целые дивизии? Ясно, фашисты хотят показать свою силу. Поэтому и бросили на Мадрид столько танков. Но стойкому солдату танк не страшен: из узкой глубокой щели ему не выковырнуть бойца... Значит, наша задача побороть танкобоязнь, научить солдат сражаться против танков, и тогда фашисты не продвинутся ни на шаг.
— Научить... в условиях боя? — спросил Мишо.
Ренн передернул плечами:
— Приходится.
Он взял папиросу, примял мундштук, закурил.
— Да, учить приходится в обстановке боя. Сегодня на окраине Университетского городка наши бойцы подбили четыре фашистских танка. Все четыре — гранатами из щелей. Это и есть школа. Если боец знает, что бегство от танков равносильно гибели, а выдержка равносильна победе, если солдат видит, что черт не страшен... Одну минутку: у русских есть хорошая пословица насчет черта... Как она звучит?
Мишо засмеялся:
— Не так страшен черт, как его малюют.
— Вот именно! — громко воскликнул Ренн. — Если солдат убедится, что танк не так страшен, как его малюют, тогда фашистские машины не пройдут.
Я спросил у Ренна:
— Вам доводилось сражаться против танков?
Он посмотрел на меня так, словно не понял вопроса.
— Что здесь особенного?
— Я думаю, нужен сильный характер.
— Просто не нужно быть трусом, — сказал он. Понимая, что могу помешать их разговору, я взял
фуражку и тихонько направился к, двери. Но Мишо остановил меня:
— Дня через два наведайся, приходи запросто, мы ведь земляки.
Домой, в каморку Капитана, я возвращался словно в полусне. С какими людьми мне довелось встретиться! За два часа, которые я провел у Мишо, к нему заходили и военные и штатские, и, тепло встречая их, коротко беседуя, отвечая шуткой на шутку, он поминутно брался за блокнот. Я понял, что этот приветливый человек работал непрерывно и гости и телефон, звонивший десяток раз, нисколько ему не мешали.
Из гостей Мишо мне особенно запомнился скромный, молчаливый летчик, с открытым мужественным лицом. Я познакомился и с ним, и, узнав, что я недавно из Москвы, он заметно обрадовался. Тихо, чтобы не помешать хозяину беседовать с Ренном, он стал расспрашивать меня, как переживает Москва испанские события, потом поинтересовался, где я жил и учился. Прощаясь, он спросил дружески:
— Значит, немного летал? И конечно, тянет в небеса? С крыльями, приятель, не так-то просто расстаться.
Когда он ушел, Мишо сказал восхищенно:
— Человек с большой буквы. Истинно хозяин неба!
Ренн улыбнулся и одобрительно кивнул:
— Камарада Серов? Подлинный ас!..
Вот с кем я познакомился — со знаменитым летчиком Серовым, о котором много слышал в Москве. Но, кто же был Мишо? Ни его фамилии, ни звания в разговоре я так и не узнал, а ведь это было интересно. Я решил возвратиться в гостиницу и расспросить дежурного. Старичок дежурный подозрительно осмотрел меня с головы до ног, и сам стал допытываться, кто я и откуда. Разузнав обо мне все, что ему хотелось, он ответил очень любезно:
— Справок, молодой человек, не даем.
Случилось, что с Мишо я встретился раньше назначенного им срока, и не в гостинице — на передовой.
Капитан сдержал слово: через друзей он установил, на каком участке обороны Мадрида сражался Фернандо, и получил задание доставить в подразделения свежие газеты. Меня он взял помощником, и, нагрузившись пачками газет, мы отправились в дорогу.
За короткое время мы побывали в Университетском городке, у Моста французов, в Западном парке, в Каса-дель-Кампо, в районах Умера и Аравака. Я знал эти зеленые пригороды до войны, помнил массовые гулянья в Каса-дель-Кампо, праздничные толпы среди пышных цветников, музыку и танцы под сенью старых каштанов, ильмов, тополей... А теперь я увидел сплошное пожарище, груды развалин, обожженные и выкорчеванные деревья, окопы, траншеи, бомбовые воронки.
Капитан рассказывал, что в ноябре прошлого, тридцать шестого года здесь развернулись особенно ожесточенные бои: фашисты наступали со стороны Карабанчеля, на узком участке фронта они сосредоточили огромные силы пехоты, марокканской кавалерии, танков, артиллерии. Передовым отрядам фашистов удалось прорваться через боевые порядки защитников города, и в прорыв хлынули их войска. Но дружинники Мадрида закрыли брешь и повели бой на полное уничтожение окруженного противника. Франко потерял здесь сотни своих солдат и офицеров. Здесь перестало существовать свирепое воинство марокканских наемников: они заплатили за зверства, которые чинили в захваченных районах.
Изрытая земля хранила следы недавней битвы: меж деревьями чернели обгорелые итальянские танки и машины, валялись снарядные ящики с чужеземным клеймом, на сплетениях колючей проволоки ветер трепал обрывки зеленых шинелей.
Проученные в ноябре, франкисты серьезных операций здесь больше не предпринимали, они вели «беспокоящий» артиллерийский обстрел окраин из Сьерра-де-ла-Анхелос, что по дороге на Аранхуэс, и ежедневно завязывали ружейную перестрелку.
На развилке аллей нас остановил молодой капрал, спросил, кто мы и зачем, поблагодарил за газету.
— Будьте осторожней, ребята, — сказал он. — Отсюда до противника двести метров.
Мы пробирались вдоль переднего края по траншее, раздавали газеты, и дружинники встречали нас то веселой шуткой, то предложением перекурить или закусить. По виду бойцов, по обжитым углам траншеи, по спокойной деловитости солдат можно было понять — война уже стала для них буднями, каждодневной работой.
Фернандо мы нашли на КП батальона, в просторном блиндаже. Он шумно обрадовался нам и так меня обнял, что затрещали кости.
— Москвич?! Я знал, что ты вернешься. Ты не мог не вернуться, верно?
Он познакомил нас с комбатом и стал рассказывать ему, как мы расклеивали с Капитаном листовки, но тут же спохватился и потащил нас на кухню обедать.
— Какая жалость, Рубен, — говорил он торопливо и все заглядывал мне в глаза, — Нет времени, а ведь у меня к тебе тысяча вопросов! Ночью ожидаем атаки, каждая минута на счету. Ну ладно, разыщу тебя в городе. Что, видел Росу? Молодец девушка! Четверых раненых вынесла с ничейной земли. Четыре жизни — это здорово, друг!
Я не успел спросить Фернандо, как мне увидеть Росу, — его позвал командир.
Минут через двадцать Фернандо прислал к нам дружинника, веселого малого, в прошлом артиста. Высокий чубатый парень щегольски вскинул руку к пилотке.
— Друзья-почтальоны, я прикомандирован к вам в качестве проводника, хотя это занятие паршивое. Вчера здесь убит почтальон. Позавчера — тоже. Вы сами понимаете, что снайпер не спрашивает, кто ты. Будем надеяться, что с моей помощью все обойдется благополучно.
Он кликнул повара, попросил дать ему обед и, непрерывно рассказывая о себе, уписал полный котелок супа. Когда он занялся вторым блюдом, мы уже знали, что его имя Манолин, что по призванию он трагик и Отелло — его любимая роль.
Трагик понравился Капитану, и он спросил:
— А в цирке, почтенный, вам выступать не доводилось?
Трагик усмехнулся.
— Было такое, по безработице. Однажды пришлось изображать медведя, так как настоящий медведь издох.
Мы догадывались, что Фернандо нарочно прикрепил к нам этого веселого проводника, и, когда Манолин рассказывал о своих отважных вылазках в расположение противника, не особенно верили каждому его слову. Слушая беззаботную болтовню артиста, мы пробирались вслед за ним через густой кустарник, в отдельную траншею. Падая на землю, он приказал:
— Ложись...
Мы залегли, впрочем, уверенные, что он затеял какую-то шутку, но шутки на фронте коротки: по кустарнику ударил пулемет. Я до сих пор не знаю, как наш проводник заметил, или почуял опасность. Пулеметная очередь прошла над самой землей, и нас осыпали сбитые листья.
Бойцы в передней траншее удивились приходу почтальонов. Запыленный командир с рукой на перевязи — его звали товарищ Селесто — спросил:
— Зачем же так рисковать, приятели? До фашистов отсюда рукой подать. Там, где вы ползли, они простреливают каждый кустик.
Артист безмятежно улыбался.
— Почтальоны были со мной. Разве вы не знаете меня?
Я ждал, что командир отчитает его, но офицер заметил мягко:
— Осмотрительность и вам не мешает, Манолин. Риск должен оправдывать себя.
Оборону на этом участке фронта занимала Стальная рота, начавшая свой марш от монастыря салезианок и ранее носившая название «Октябрь». При чем здесь монастырь? Дело в том, что в Мадриде, в монастыре ордена салезианок, в начале гражданской войны размещался первый центр, вербовавший отряды народной милиции. Здесь родился наш славный Пятый полк, в который влились отряды «Железо», «Красные львы», «Парижская коммуна», «Матросы из Кронштадта», «Тельман» и другие. Этими отрядами руководили коммунисты, и сознательная дисциплина, порядок, организация были здесь намного выше, чем в других формированиях. Воины, которые начали свой боевой путь в старом монастыре в ту пору, теперь считались испытанными ветеранами, и наш проводник принадлежал к их числу.
Я вспоминаю встречу с беспечным трагиком потому, что, по наивности, герои виделись мне в бронзе, как памятники. Сколько их и сейчас гарцует по всей Испании на бронзовых конях! А Манолин был героем без пьедестала, самый земной человек, да еще с отличным аппетитом. Солдаты рассказали нам, что он четыре раза отправлялся ночами в расположение противника и четыре раза приводил или приносил «языка».
Нет, герои не принимали величественных поз: они зарывались в землю, ползали по грязи, делились окурком сигареты и меньше всего помышляли о бессмертии. Я узнал, что артист был дружен с матросом Антонио Коллем, с тем отважным Коллем, слава которого гремела на весь Мадрид: он вышел против четырех итальянских танков и уничтожил гранатами две машины.
Впервые в жизни я находился на фронте, на передовой, видел неподалеку отсюда бруствер вражеской траншеи, даже слышал голоса фашистов — иногда они выкрикивали в рупор угрозы. В нашей траншее, которую фашисты уже не раз атаковали, пытаясь отбить выгодный рубеж, меня поражал спокойный, деловитый быт. Люди читали газеты, брились, чистили оружие, некоторые спали, а другие вели наблюдение за окопами противника и время от времени открывали огонь, даже не привлекая внимания товарищей. День был самый обычный, один из тех, о которых сводка сообщает: «Без перемен». И хотя к вечеру из траншеи вынесли двух убитых, это событие осталось незамеченным.
Командир роты приказал нам оставаться в траншее дотемна, так как на той стороне «работал» снайпер.
Ночью, когда мы возвращались в тыл, Манолин предложил заглянуть в блиндаж командира.
— Товарищ Селесто, конечно, не спит, — сказал он, уверенно отыскивая в темном, притихшем парке тропинку.
Капитан спросил:
— Стоит ли беспокоить командира?
— Каждый мой шаг продуман и каждое слово взвешено, — весело ответил артист, У командира должна быть почта для Мадрида, и вы отнесете ее. Кроме того, как приказал товарищ Фернандо, нам еще предстоит зайти к санитарам.
Фернандо... Вот славный друг! Он знал, что я хочу увидеть Росу, и позаботился об этом. Капитан легонько толкнул, меня плечом:
— Переживаешь?
— Переживаю.
В блиндаже командира мы застали группу офицеров: все они были веселы, шутили, смеялись. Над огоньками плошек волнами плыл табачный дым. У стола на ящике сидел моложавый человек в роговых очках и, кривясь, с усилием снимал с ноги сапог.
— Хорошая обувь, добротная, — говорил он, отдуваясь, — но... без привычки. Мне кажется, что там, где я прошел, выкорчеваны все пни и корни.
— Ну, если бы так, — усмехнулся Селесто, — фашисты обязательно заметили бы вас!
— Удивительно, что не заметили, — сказал человек в очках, наконец-то стащив с ноги сапог. — Фокус неожиданности, не иначе. Но теперь я знаю, что жизнь разведчика измеряется не годами, нет, минутами, а в этих минутах содержания — на годы!
— Все же я остаюсь при своем мнении, — сказал Селесто. — Разведка — дело не для журналистов,
Моложавый медленно повернулся к нему всем корпусом — я сразу узнал Мишо!
— Будем спорить! — заметил он с шутливой решимостью. — Я полагаю, что журналист обязан находиться там, где происходят самые важные события, и должен пережить то, что переживают его герои. Впрочем, это моя личная точка зрения: каждый работает, как может.
Он взглянул на меня и удивленно развел руками:
— Ба!.. Вот где ты, мадридский москвич! Значит, уже при деле?
Он спрашивал по-русски, и его слов никто из присутствующих, конечно, не понял.
— Нет, — сказал я. — Дело у меня временное. Помогал товарищу разносить газеты. Если позволите, я к вам зайду.
Товарищ Мишо пожал мне руку.
— Я уже говорил с Модесто и скоро поздравлю тебя с посвящением в воины. Кстати, с ним говорил и Павлито. Модесто сказал, что хорошего пулеметчика он возьмет немедленно.
Капитан получил у Селесто несколько писем, и мы вышли из блиндажа. Артист был весел и насвистывал песенку.
— Вот что, братишка, — спросил он, беря меня за локоть, — у тебя есть серьезные знакомства? Ты хорошо знаешь этого товарища?
Я ответил, что знаю только его имя, и где он живет.
— Не больше? — удивился Манолин. — А ведь это известный человек, и наши ребята уважают его за смелость. Сегодня он ходил в разведку, два дня назад присутствовал при отражении атаки. И всегда спокоен. Мало сказать спокоен — невозмутим. Это советский журналист Михаил Кольцов.
ОТСТУПЛЕНИЕ И ПЛЕН
...Уже всходила луна, и домик сторожа в зарослях парка, построенный в виде маленькой крепости рыцарских времен, с башенкой, сплошь оплетенной плющом, выглядел таинственно и живописно. Еще недавно им любовались и отдыхающие мадридцы и туристы. Теперь здесь размещался медсанпункт и за игрушечными бойницами-окнами метались раненые.
Манолин подошел к окну, постучал. Дверь тотчас открылась, он вошел в дом. Я и Капитан ждали у ограды. Лунное зарево разгоралось, и желтые пятна света перемещались на стволах платанов, на чутких ветвях, а гравий аллейки вспыхивал и тлел крупными искрами.
— До чего же красиво! Видишь, за домиком — пруд. Раньше там было много лебедей. Ты бывал здесь, Капитан?
Капитан не ответил. Я обернулся: на аллейке я был один.
А по дорожке от домика к ограде быстро двигалась светлая фигурка. Она приближалась... приблизилась, и я взял руки Росы в свои и ощутил лицом ее дыхание.
«Странно, — подумал я, — хотелось сказать так много, а вот молчу». Роса тоже молчала. Я чувствовал, как вздрагивают ее руки, и слышал стук ее сердца.
— Маленькая моя, — сказал я. — Ты ждала...
Она обняла меня за плечи, прижалась головой к груди.
— Да, я ждала тебя. Я очень ждала тебя, Рубен. Я люблю тебя. Очень люблю. Ты это знаешь. Должен знать.
— Я знаю, что у меня это впервые и навсегда, — сказал я.
Дверь домика снова открылась, и хрипловатый женский голос позвал:
— Санитарка... Скорее!
Роса взяла мою руку.
— Вот мы и прощаемся. Ты здесь? В какой роте?
— Я только собираюсь на фронт, а куда направят — не знаю. Все равно мы встретимся. Я разыщу тебя.
— Будь счастлив, Рубен. Есть главный почтамт, есть время... Помни, что я с тобой. Всегда с тобой.
Она повернулась и побежала к домику, и черная тень ветки на миг перечеркнула ее.
Не оглядываясь, я понял, что Капитан уже стоял рядом.
— Быстро вы расстались, — негромко сказал он.
— Ее позвали к раненому.
Капитан легонько оперся о мое плечо.
— Она тебя любит, друг-баск. Очень любит. Не знаю, за что тебя любить!
— Я сам не знаю. Наверно, это счастье.
— Будьте счастливы, друг-баск. Я от всей души желаю вам добра и счастья. Как это хорошо — быть любимым, друг-баск, и любить!
Я никому не рассказывал об этой последней встрече, но мог бы говорить о ней очень много... только себе. Потому что есть бесчисленные подробности, о которых другим не скажешь: и тишина ночи, и зыбкий почему-то волнистый лунный свет, расплеснутый на цинковой крыше башенки, и тени деревьев, словно живые, и сырой, терпкий запах коры, и рокот пулемета где-то за парком, и теплая рука в моей руке, и большие, такие близкие зрачки ее глаз, таинственные и немые. Столько подробностей, хотя мы виделись две-три минуты... А уже к исходу следующего дня, находясь в Мадриде, я узнал, что меня направляют в армию Эбро, которой командовал прославленный Модесто. Товарищ Мишо и Павлито Родимцев напрасно сомневались, отпустит ли меня мать. Оказывается, оба они ей звонили, и она ответила:
— Если бы у меня было десять сыновей — все десять взяли бы оружие.
Наше прощание было кратким. Она обняла меня и поцеловала в лоб:
— Иди, Рубен, и будь смелым.
Казалось, она спешила, но я понимал, ей стоило огромных усилий оставаться такой спокойной.
Собираясь в дорогу на Эбро, я решил, что при первом же случае, если доведется побывать в Мадриде, разыщу Мишо и Родимцева и от души поблагодарю. Все же они сделали для меня так много: я уже получил оружие и, значит, занял свое место в жизни.
Через несколько недель я снова побывал в Мадриде: приехал со специальным поручением — у меня был пакет для Листера. В отеле, в номере Листера, я встретил и Павлито и с первого взгляда приметил, что оба они грустны... Родимцев сказал мне, что пришел к Листеру проститься. Павлито отзывали в Москву. Еще он сказал, что очень не хотел бы покидать испанских друзей в беде, но для него, советского офицера, приказ есть закон.
Я проводил его до машины, и мы простились. Почему-то он заметил:
— А знаешь, Рубен, верится мне, что где-то, когда- то наши дороги еще сойдутся.
И он не ошибся — они сошлись. Мы встретились в прошлом году в Москве, в военном училище имени Верховного Совета... А Мишо — Михаила Кольцова — я больше не встречал.
Через пять дней я участвовал в сражении за Каталонию. Прошли недели, и я был произведен в капралы, а потом в сержанты. Положение на фронте все осложнялось, а в нашем разведывательном отряде из строя выбыло больше половины личного состава. Пополнялся отряд за счет добровольцев, которые шли к нам из рабочих поселков, из деревень, но большинство этих славных ребят, при всей их смелости и ненависти к врагу, зачастую оказывались обузой: они не имели военной подготовки.
Когда мятежники прорвались к Средиземному морю, многие были уверены, и не только наши враги, что дни республики сочтены. Но именно тогда и произошло то чудо, какого уже никто не ожидал: израненная армия Эбро перешла в наступление. Два наших славных полководца, оба рабочие, воины Пятого полка — Модесто и Листер, блестяще осуществили смелую операцию: армия форсировала Эбро, вышла на правый берег и за неделю боев отвоевала у противника свыше трехсот километров территории.
Вы, наверно, знаете, как обидно неравны были силы. Мятежники получали все новые подкрепления. Гитлер и Муссолини слали им танки и самолеты, орудия и снаряды, пулеметы и патроны, а наша армия держалась только мужеством своих бойцов. И все же фашистам понадобилось более четырех месяцев, чтобы вернуть районы, занятые нами за неделю.
Что тут говорить о боевых эпизодах, если каждый день и час нашего последнего наступления и отхода за Эбро были высоким подвигом всей войны?
Четыре месяца непрерывных упорных боев без пополнения поредевших войск, без авиации, без танков, почти без боеприпасов! Но армия Эбро была жива. Армия Эбро сражалась: отбрасывала наседавших фашистов, брала пленных, захватывала трофеи.
Некоторые наши подразделения дрались исключительно трофейным оружием. Ночами по глухим тропинкам смельчаки добровольцы пробирались в тыл противника, внезапно нападали на его патрули, на заставы и обозы и возвращались с боеприпасами. Но какие бы ни были захвачены трофеи, много по горным тропинкам не унесешь. А сколько наших ребят не вернулось! Только горные перевалы знают об их последних боевых делах.
Впереди отходившей армии долинами, ущельями, лесным бездорожьем отступал безоружный народ. Население деревень и сел снималось с родимых мест до единого человека и шло на север, к границе Франции, неся на руках детей, волоча на тележках свой жалкий скарб.
Тысячи и тысячи людей, которые одновременно стали бездомными, упрямо продвигались к границе в отчаянии и без надежды: итальянские и немецкие самолеты непрерывно бомбили их на переправах, расстреливали из пулеметов, бросали на лес «зажигалки», и пламя невиданных пожаров по ночам поднималось до облаков.
Голова этой бесконечной колонны достигла границы, и по «живому телеграфу» в батальоны, которые вели арьергардные бои, доносились вести одна тревожнее другой, и все же не верилось, чтобы Франция, «страна свободы», отвернулась от нас.
В Интернациональной бригаде за республику отважно сражались лучшие сыновья Франции, наши воины знали их имена, и как было поверить, что их родина не подаст руки трудовой Испании?
Впрочем, за годы войны сотни тысяч испанцев поняли, что существуют две Франции, как и две Германии и две Италии. Франция Ромен Роллана всем сердцем желала нам победы. Германия Тельмана, порабощенная фашизмом, прислала нам на помощь своих борцов.
А итальянцы? Ведь это же они, итальянские антифашисты, вместе с нашими бойцами громили черное воинство Муссолини под Гвадалахарой.
Нет, истинная Франция не была повинна в том, что ее правители предали революционную Испанию в самые трудные, трагические дни.
На военных складах Франции, у самой границы Испании, лежало оружие, доставленное из Советского Союза. Там были снаряды и патроны, продовольствие и медикаменты — все, в чем так нуждались наши войска. Кто подсчитает, сколько воинов республики погибло потому, что Франция задержала на границе это оружие?
Когда бои развернулись на левом берегу Эбро, у наших санитаров не было даже йода и бинтов, и они рвали для перевязок простыни, рубахи, а к ранам прикладывали травы.
Рядовому солдату за всеми поворотами политики не уследить. Он сражался за землю, за хлеб, за счастье своих детей. О чем там шептались в тиши кабинетов в Париже, в Лондоне, в Берлине, Вашингтоне господа министры — солдат не знал. Он видел, что на оставленную им землю снова возвращались помещики. Зачем понадобилось Франции задержать оружие? Ответ у солдата был один: чтобы облегчить победу фашизму. Басни о невмешательстве в испанские события так и остались баснями. О государствах, как и о людях, судят по их делам. Так судили и наши солдаты. Испанская республика сражалась не только против внутренней контрреволюции, против интервентов Гитлера и Муссолини. Ее врагами были и правители Англии, Франции, Америки.
И вот мы у самой границы, вблизи Средиземного моря. Она была бы совсем неприметна, если бы не полосатый столб на высотке. И если бы не цепь французских жандармов, протянувшаяся до горизонта.
У них пулеметы. Сколько пулеметов! Нам бы такие «машинки», и неважно, что это последний рубеж!
У них много танков. Зачем они перебросили их сюда?
Можно было подумать, что французы готовились атаковать нас, едва мы достигнем черты границы.
В эти последние минуты прощания с родиной наши воины не торопились. Они опускали носилки, на которых метались раненые, снимали фуражки и молча смотрели на дальние горы, на лесистые долины, где недавно гремели бои. Там, позади, в косяках весеннего дождя — милая сердцу Каталония. Там у солдат осталось все: отчий кров, детство, родные могилы. Но дороги назад отсечены, а в десяти шагах, за чертой границы — плен. Как дорог он был, этот последний клочок родной каменистой земли!
Я видел, седой командир с забинтованной головой опустился на колени и поцеловал камень, а солдаты бережно сгребали в платочки и прятали на груди горстки испанской земли. Потом они поднимались, черные, угрюмые, с пустыми глазами, переходили черту и опускали наземь оружие.
Усатый французский офицер покрикивал:
— Руки назад!.. Марш!
На откосе горы, на обширной поляне, нас снова построили в шеренгу, и тот же усач объявил:
— Отныне вы военнопленные и подчиняетесь законам Французской республики.
Солдаты молчали. Шел дождь, и мутные капли сбегали по утомленным лицам. Можно было подумать, что солдаты плачут молча, стиснув зубы.
Колонну гнали от границы в сопровождении вооруженных автоматами жандармов и злобной своры овчарок. Правда, у первого колодца нам разрешили напиться воды.
Да, Франция оказалась очень гостеприимной: она распахнула перед нами ворота Сан-Сиприана, Кольюра, Аржелеса. Это были ворота концлагерей.
Мне, можно сказать, повезло: я оказался в «курортном» концлагере. Он был на самом берегу моря, и при свежем ветре под колючую проволоку его ограждения захлестывал прибой.
Нам было настрого запрещено выходить за территорию концлагеря, общаться с гражданскими лицами, проводить собрания или митинги, разжигать костры, даже петь. Приказ, расклеенный на дощатых стенах бараков, гласил, что нарушители лагерного порядка будут переданы испанским пограничным властям.
Сколько нас было, пленников, в лагере Аржелес — десять или двадцать тысяч человек, — я не знаю. В бараках не хватало мест, и многие были вынуждены спать под открытым небом. В последних боях на перевалах Пиренеев, когда стало ясно, что мы уходим во Францию, как-то сама собой у солдат сложилась поговорка: «Терпи, боец, во Франции отдохнем!» А теперь ночлег под открытым мартовским небом, когда здесь дуют холодные ветры и постоянно моросят дожди, солдаты стали называть «отдыхом по-французски», и эта незлобивая шутка почему-то бесила охранников.
Кто были эти служаки из концлагеря? Неужели фашисты? Мы часто задумывались над этим, но не находили ответа. Мы знали французов — шахтеров, моряков, рыбаков, крестьян, пастухов, шумных и веселых туристов — и всегда умели ладить с ними и дружить, как и положено добрым соседям. А эти надутые господа с автоматами наизготовку вели себя так, словно мы были их исконными врагами.
Значит, кто-то их подготовил, кто-то внушил им и настороженность, и недоверие к нам, черствую отчужденность, похожую на ненависть.
Наши раненые были размещены в отдельном бараке. К низенькому крыльцу этого убогого жилища ежедневно подкатывал старинный катафалк. Нам разрешали провожать покойников только до ворот, дальше — ни шагу. Мы стояли у колючей ограды и смотрели на дорогу, пока черная повозка не скрывалась за поворотом пустынной улочки.
Обстановка, в которой мы находились, выглядела странно. Мы не воевали против Франции, но находились у нее в плену. Глядя на подчеркнуто строгих охранников, можно было подумать, что это они, смельчаки, взяли нас в плен и потому пыжились от гордости. Но они не только важничали, покрикивали, угрожающе поднимали автоматы — в ночное время они дважды открывали огонь. Кто-то из наших неосторожно приблизился к воротам и едва не был убит.
Постепенно в концлагере назревало возмущение. Солдата, испытанного в боях, наведенным автоматом не запугаешь. Многие из наших говорили: «Потерявшему родину — нечего терять». Бесчестно обижать такого солдата. А щуплый, заносчивый унтер-офицер из охраны замахнулся прикладом на нашего майора...
В ту же минуту унтер был обезоружен. Он даже не понял толком, как это случилось: автомат выскользнул из его рук и оказался в других — ловких, уверенных руках. На выручку унтеру бросились трое охранников. Их тоже обезоружили. Наши ребята умели добывать оружие даже голыми руками.
Тревожно завыла сирена, отозвались ей колокола, в небо взмыла красная ракета, и целое войско — откуда оно здесь взялось? — двинулось к лагерю, будто на приступ.
Французские солдаты оцепили концлагерь, а их командир, коренастый полковник, неторопливо прошел через ворота, приблизился к заключенным, которые стояли во всю ширину двора тесной толпой, и взял под козырек.
— Я хотел бы видеть кого-либо из старших офицеров, — сказал он по-испански. Лицо его не выражало гнева.
Из толпы вышел наш майор.
— Я слушаю вас, господин полковник дружественной нам французской армии.
Полковник взглянул на жандармов, передернул плечами, усмехнулся и подал майору затянутую в белую перчатку руку.
Толпа всколыхнулась, притихла, и в напряженной тишине, какая бывает перед взрывом, перед решением судьбы, я слышал только редкие, глухие удары — по дощатой крыше барака стучал дождь.
— Если у интернированных господ офицеров или рядовых Испанской республиканской армии имеются претензии, — сказал полковник, отчетливо выговаривая испанские слова, — вы можете доложить.
Майор козырнул, выше вскинул голову.
— Так точно, имеются претензии к охране лагеря. Мы — воины, а с нами здесь обращаются как с преступниками. Мы требуем заменить охрану: пусть уберут жандармов и поставят ваших солдат.
Полковник удивленно приподнял брови; было видно, что ему понравилась эта просьба; возможно, он шел сюда, уверенный, что встретит бунтующую солдатскую стихию, но не услышал и не увидел ни резкого слова, ни жеста. Видимо, стараясь продлить минуту контакта или окончательно разгадать настроение пленников, он спросил:
— Вы полагаете, что мои солдаты окажутся нежнее?
— Мы не нуждаемся в нежностях, господин полковник, — отрезал майор. — Мы знаем, что солдат свободной Франции не станет издеваться над солдатом свободной Испании.
Полковник наклонил голову и медленно прошел перед толпой. Словно споткнувшись, он резко обернулся.
— Вы отобрали у охраны оружие. Где оно?
Майор приказал:
— Возвратить оружие...
В толпе произошло движение, она отхлынула и разделилась, уступая дорогу коренастому, подтянутому пареньку, который нес на вытянутых руках четыре автомата. Он подошел к полковнику, положил оружие на землю.
— Это все? — спросил полковник.
— Так точно! — ответил паренек, и тут я узнал его. Это был Капитан.
В первую минуту я подумал, что ошибся. Как мог Капитан, сражаясь в Мадриде, оказаться среди бойцов Эбро? Я стал проталкиваться поближе к переднему ряду, не упуская его из виду.
Инцидент был исчерпан, полковник передал автоматы раздосадованным жандармам. Обращаясь к нам, он сказал:
— Я попрошу охрану забыть этот печальный случай и доложу о ваших претензиях высшему начальству. Предупреждаю, что зачинщики беспорядков будут немедленно переданы офицерам пограничной службы нового испанского правительства.
Он еще раз взял под козырек и направился к проходной, а толпа долго стояла неподвижно и молча, и редкий тяжелый дождь стучал по плечам солдат.
ПОБЕГ
С этого часа по лагерю поползли зловещие слухи. Наверно, их распускали сами охранники, чтобы запугать нас. Кому-то было известно, что французские власти ведут переговоры с Франко о выдаче ему интернированных испанцев. Кто-то знал, что вблизи Аржелеса уже было передано пятьдесят человек. Кто-то уверял, что Муссолини требует выдачи итальянцев — воинов Интернациональной бригады, а Гитлер — немецких антифашистов. Пословица говорит, что дыма без огня не бывает, и разве французский охранник, из Аржелеса, думалось мне, гуманнее испанского фалангиста? Они всегда могли договориться между собой — тайные французские и явные испанские фашисты.
Я разыскивал Капитана и не мог найти. Он исчез так же таинственно, как и появился. Огромный лагерь, протянувшийся вдоль моря, я исходил вдоль и поперек, побывал во всех бараках, но безрезультатно.
А Капитан действительно был в лагере. Пока я осматривал самый дальний и самый перенаселенный барак, он спокойно сидел на краешке нар и ужинал в обществе двух пожилых солдат.
Какая это была встреча, трудно рассказать: мы оба и плакали и смеялись, спрашивали друг друга о чем-то и не слышали ответов, а потом Капитан сказал, что ему нужна разрядка: схватил доску, сломал ее о колено и наконец-то немного успокоился.
Мы ушли на песчаную отмель, где лежал старый разбитый баркас, отыскали на нем местечко и стали обсуждать наши незавидные дела.
Капитан сказал:
— Мы должны бежать, друг-баск. Это единственный выход.
— Я думал об этом. Наверное, многие наши об этом думают. Куда бежать?
Он засмотрелся на море; впервые на озорном лице его я заметил крутые, горькие морщинки.
— Сначала я решил, — сказал он, сосредоточенно хмуря брови и покусывая губы, — что нужно бежать в Пиренеи. Собрать отряд, раздобыть оружие и вести партизанскую борьбу. Но товарищи сказали мне в один голос, что это детская авантюра.
— А бежать нужно, Капитан. Кто знает, что могут решить господа французские министры? Быть может, завтра они подружатся с Франко.
— Они уже подружились, — молвил сквозь зубы Капитан. — Иначе нас не бросили бы за колючую проволоку. — Он взял мою руку. — Дружище... а что, если мы махнем в Париж? Постой, не шуми, чем смелее, тем лучше. Нам, главное, выбраться из этой помойки, переодеться, достать какие-нибудь документы.
В Париже мы найдем друзей. Я знаю знаменитого хирурга Думанского-Дюбуа, полковника Фабьена, доктора Рукеса и еще, пожалуй, человек двадцать чудесных французов, которые сражались в Мадриде. Они не оставят нас в беде.
— Дело Капитан, согласился я. — Только нужно продумать каждый шаг. Может, мы встретим надежных людей и здесь, в Аржелесе?
Тут мы заспорили: Капитан считал, что в маленьком Аржелесе, переполненном полицией и военными, ни до побега, ни после него связей не стоило искать: мы могли наскочить на доносчика. Его план был прост: выждать потемнее ночь, проскользнуть под колючей проволокой ограды, добраться до ближайшей железнодорожной станции и двигаться в глубь Франции товарными поездами.
А меня привлекали рыбачьи причалы: там постоянно швартовались малые суда, сдавали рыбу, выгружали соль и снова уходили в море. Я знал рыбаков Бискайи, людей суровых и добрых, отзывчивых к чужой беде, готовых к взаимовыручке. Верилось, что рыбаки приютят нас на одном из своих баркасов и доставят куда-нибудь в район Пор-Вандра, Эльена, Перпиньяна, подальше от концлагеря.
Ничего надежного в этих планах не было, да и не могло быть, и мы решили действовать соответственно обстановке: удастся пробраться к рыбакам — проберемся, нет — пойдем пешком. На эту ночь я устроил Капитана в «своем» бараке; солдаты беспрекословно потеснились, узнав, что я разыскал друга.
Всю ночь до рассвета лил дождь. Барак, до отказа набитый уставшими, разгоряченными людьми, скрипел и качался от ветра, словно уносился куда-то по хляби под шумным потоком воды.
Мы лежали на верхних нарах в самом уголке, и Капитан тихонько рассказывал мне о Мадриде, о его последних часах. Где-то внизу, под нашими нарами, тускло горела плошка; кто-то закрывал от нас огонек, и черная тень металась по бараку. А мне казалось, будто я чувствую, как она бьется на моем лице, и я понимал — это начинался приступ лихорадки.
— Ты не увидишь больше Мартинесов... — шептал Капитан, и дождь заглушал его слова. — Знаешь, как они погибли? Они попали в лапы «бригады смерти» фалангистов, и у обоих было оружие. Где они взяли эти старые охотничьи ружья? Да и не смешно ли — с ружьями против автоматов? Я думаю, братья представляли себе войну по старым романам, по стихам.
Они ненавидели врага, но убивать его не научились. Они могли клеймить фашистов сильными речами, а нужно было убивать.
Просто умереть от пули, — медленно, чуть слышно говорил Капитан. — Пуля срывает жизнь, как травинку. Выстрел — и тьма. Ничто. Да, очень просто умереть от пули. А братья умирали мучительно и долго. Их били палками, связанных, час и два. Палки ломались, и палачи уставали. Они сменяли друг друга и снова полосовали палками этих двух пленников. Ты больше не увидишь Мартинесов. Никогда.
— Где их родные, — спросил я Капитана, — старый доктор Мартинес, мать, сестра? Я часто вспоминаю эту хрупкую девочку с большой корзиной, полной подарков для заключенных.
— Они прошли через ворота тюрьмы Киньонес, — сказал Капитан. Одновременно был схвачен и доктор Мауро. Ты, конечно, помнишь этого славного старика? Уверен, что его выдал Асеведо, и не только выдал — оклеветал. Мартинесам из тюрьмы не вернуться: при обыске в их доме был арестован коммунист Ягуэ. Его расстреляли в тот же день. Он был членом Мадридского провинциального комитета.
— А девочка, подруга Росы... Каридад?
— Ты не увидишь и ее, друг-баск. Понимаю, тебе не верится, чтобы такую маленькую бросили за решетку. Но ведь это фашисты, Рубен. Разве они не убивали грудных детей? Что там средние века, инквизиция... Франко переплюнул самого Торквемадо — пугало всех времен! Однако ты хочешь спросить и о Росе? Так бы и сразу! Только я ничего не отвечу. Обидно, что ничего не могу сказать. Если она жива, ее всегда поддержит Фернандо, а Фернандо жив, я знаю. Имя и даже внешность у него, конечно, другие, но дело неизменно — дело партии.
— Я думаю, они разыскивают тебя, Капитан. Может быть, еще и сейчас разыскивают, Роса и Фернандо.
Он долго лежал с открытыми глазами, слушая, как барабанит по крыше дождь.
— Нет, — сказал он твердо. — Никто меня не разыскивает. Зачем искать расстрелянного? Я был арестован в центре города на пятый день после падения Мадрида, при мне был мой парабеллум. Странно, что в тюрьме Карабанчель меня даже не били. В протоколе было записано: мальчишка с револьвером. Тюремное начальство было слишком занято, чтобы вести допросы. Протокол был списком осужденных без указания вины. Эти списки зачитывались дважды: при проверке во дворе тюрьмы и перед расстрелом. Ты знаешь, о чем я думал в свои последние минуты, друг-баск? О том, что судьба улыбнулась мне на прощание. Да, судьба мне улыбнулась! Я снова увидел наш славный зеленый Каса-дель-Кампо, знакомые аллеи, тот домик сторожа. Нас, пятьдесят человек, выстроили перед канавой и стали вызывать по фамилиям. Помнишь у калитки огромный платан? Ветра не было, а он шумел. Тогда мне припомнилось, как под этим платаном ты простился с Росой... Мне очень хотелось жить, Рубен, и никак не верилось, что я умру. Я рассчитывал время, каждую секунду, ход времени был во мне самом — в мозгу, в жилах, в коже, и, когда загремел пулемет, я свалился в канаву, быть может, лишь на секунду раньше, чем должен был упасть.
Плошка под нарами почти погасла, и Капитан приподнялся на локте, заглянул мне в лицо:
— Ты слушаешь меня?
— Слушаю.
— Так я остался в живых. Ночью я выбрался из-под мертвых и ушел в горы, пробрался на Эбро, где и встретил разведчиков.
Через двое суток после моей встречи с Капитаном мы совершили побег. Нас было трое: Капитан, я и пожилой француз Жюльен, скрывший от лагерного начальства свою национальность. Он правильно поступил, избавившись тем самым от преследований во Франции. Ему не простили бы ни ранений, ни награды, которые он получил, сражаясь на Эбро.
День перед нашим побегом был ясный, но погода в том краю переменчива, и если с утра припекает солнце — к вечеру жди тумана или грозы.
Славно было бы, чтобы туман, да погуще, — поглядывая на море, говорил Жюльен. — Мне приходилось бывать на этом побережье: тут иногда случаются такие густые туманы, будто молочный кисель...
Капитан был задумчив и то насвистывал, то напевал русскую песню:
Здесь штык или пуля, там — воля святая,
Эх, темная ночь, выручай...
Почему-то Жюльен спросил его:
— Ты не боишься, дружок?
— Темноты?
— Пули.
Капитан передернул плечами, цвиркнул сквозь зубы:
— Я презираю смерть. Можешь мне верить. К вечеру со стороны моря стала заходить гроза,
и часовые на вышках надели плащи, натянули капюшоны. Вряд ли кто-нибудь из них мог подумать, чтобы в лагере нашлись люди, помышляющие о бегстве. Признаться, мне и самому наши короткие сборы казались неуверенными: я чувствовал, что снова подкрадывается приступ лихорадки, и механически выполнял распоряжения Капитана. Он сказал: «Пошли», — и я пошел рядом. Потом он приказал: «Лечь», — и я лег на сырой липкий песок; он шепнул: «Ползи», — и я полз.
Все было нереально: и желтые всплески молнии над самой землей, и протяжный звон ветра в колючей пряже ограждения, и неожиданно веселый голос Капитана:
— Эх, темная ночь, выручай!..
Жюльен схватил его за плечи:
— Тише... ты с ума сошел!
— Пустяки, — спокойно сказал Капитан. — Теперь за кустарником нас не видно.
Где-то близко отсюда полосовал ливень; временами ветер доносил тяжелый гул и плеск, но на берег срывались только редкие крупные капли, а молния билась и шарахалась в кустарнике, будто в западне.
Я мог бы сказать, что наш побег удался блестяще, ш если бы позже Капитан не допустил ошибки, за которую поплатился сам.
Мы незаметно выскользнули из лагеря и пересекли пустырь — участок открытый и потому опасный, А дальше — до самых причалов вдоль берега тянулись колючие заросли кустарника, и этими зарослями мы доползли почти до причала. Какая жалость! При вспышке молнии мы увидели, что рейд Аржелеса и малый рыбачий порт были пусты — ни сейнера, ни шхуны, ни баркаса. Значит, где-то в море начался ход рыбы, а в такую пору суда у причалов не стоят.
Теперь в действие вступил план Капитана: мы должны были незаметно пройти через Аржелес и выбрать где-нибудь за городом укромное местечко, чтобы переждать один-два дня.
Пожалуй, мы слишком долго блуждали по пустынным переулкам и чуть было не наскочили на полицейский патруль. Но все обошлось благополучно: скучный, маленький Аржелес остался позади.
Еще перед нашим побегом Капитан жаловался на жажду. Новостью это не было: в лагере жаждой мучились многие. Я думаю, что виной были рыбные консервы, которыми нас кормили: кто знает, сколько лет они пролежали на французских военных складах!
Когда мы вышли на окраину, Капитан даже пытался пить воду из дождевых луж, но спокойный Жюльен рассердился, прикрикнул на него и взбаламутил лужу.
— Глупый, ты хочешь заболеть брюшняком? В лагере уже были три случая.
— Не могу, — сказал Капитан. — Печет... Я должен зайти в любой двор и напиться воды.
Жюльен еще больше рассердился.
— Ты допускаешь ошибку, мальчик. Военные здесь в любом доме. Похоже, что в Аржелесе расквартирована целая дивизия.
— Хорошо, — сказал Капитан. — Идите вперед.
Я вижу во дворе колодец, и глупо умереть от жажды у колодца. Я был расстрелян, но не умер. Не умру и здесь.
Мы не смогли его отговорить и медленно пошли вперед. Лихорадка трепала меня так, что я не различал дороги. Жюльен взял меня за плечи и терпеливо вел, не давая упасть. А потом мы услышали резкий свист и выстрел. Я оттолкнул Жюльена и стал взбираться на пригорок. Мысль на какую-то минуту прояснилась: Капитан в опасности. Выстрелы зачастили, я насчитал их семь, но сбился со счета... По буеракам, в стороне от дороги, брел Капитан. Он заметил меня и крикнул:
— Друг-баск... я все-таки напился воды!
Он пошатнулся и упал. Когда мы подбежали к нему, он был мертв.
В Париж мы добрались через месяц: добрые люди кормили нас и укрывали от полиции. Они добыли для нас одежду и документы. Когда мы рассказывали французам о концлагере, они приходили в негодование. В те дни коммунисты Парижа направили в Аржелес свою делегацию. Две недели меня старательно лечил хороший французский доктор, и мы сообща одолели проклятую лихорадку. Каждый день ко мне приходили товарищи, которых я, правда, видел впервые, но с этими людьми я пошел бы на край света: они любили мою Испанию, а я любил их Францию — это были коммунисты. Быть может, я еще надолго остался бы в Париже, только ведь на свете есть Москва...
Последняя запись Клавича.
...Люди входят в мою жизнь как ее слагаемые, а когда уходят — мне грустно. Может быть, через месяц и я оставлю этот печальный дом. Но разве забыть мне и через годы славного доктора Алексея Тимофеевича? Он врачевал мои раны и, знаю, мучился и страдал вместе со мной. Разве забыть санитарку Аню, у которой за насмешливой улыбкой чуткость и доброта? Она уехала на фронт, сказав, что томится еще не исполненным долгом, а я просил ее написать мне с фронта и обещал ждать, ждать...
Завтра из госпиталя выписывают Рубена. Утром Алексей Тимофеевич осмотрел его, выслушал и решил:
— Можно и домой. А дома следует хорошенько отдохнуть, успокоиться, подтянуть нервы.
Рубен вскочил с койки.
— Выписываете? Когда?
Алексей Тимофеевич взглянул на часы:
— Через двадцать семь часов и тридцать минут сам открою вам дверь.
Рубен схватил его руку.
Доктор, вы человечнейший человек!
— Спасибо, — сказал Алексей Тимофеевич, заметно смущенный. — Ведите себя спокойно, иначе...
Тут Рубен взглянул на меня.
— Мой друг тоже собирается в дорогу?
Доктор высвободил руку, вздохнул.
— Вашему другу придется еще погостить у нас. В этом доме есть маленький диктатор, и все мы ему подчинены. И не только мы, даже комендант города. Знаете фамилию этого властелина? Это гражданин Термометр.
Доктор ушел, торопясь на операцию, а Рубен принялся примерять форму, которая уже давно и ему и мне была возвращена и, чистенькая, висела в шкафчике. Рукав гимнастерки оказался слишком тесным, и его пришлось распустить лезвием от самобрейки, а потом стягивать ниткой вокруг повязки, которая теперь выглядела несуразно большой. Другая повязка обхватывала грудь Рубена и бугром топорщилась под рукой, мешая свободному движению. Я сказал ему, что если бинта не видно, как будто и рана не так болит.
Причесавшись перед зеркалом, Рубен предложил торжественно:
— Присядем на минутку и помолчим. По обычаю...
Да ведь еще двадцать семь часов!
Он спохватился:
Верно. Ну что ж, потом мы еще раз присядем и помолчим.
Я давно уже примечал, что он порывался о чем-то спросить меня и словно не решался. А сейчас он, видимо, решился и стал вспоминать:
— Помните, Клавич, ту ночь перед танковой атакой? Приближалась гроза, и уже близко хлестал ливень, а мы лежали на теплой земле, и вы сказали, что, возможно, умрем мы как братья, потому что смешается наша кровь?.. Мне отчетливо помнятся те минуты, но дальнейшее, когда был ранен, я помню смутно. Напрягаю память, а вспомнить не могу. Может, я сам это выдумал? Может, почудилось? Нет, не могло почудиться: кто-то прикрыл меня тогда. Кто-то оберегал меня, закрыв своим телом. Это были вы, Янка?
Почему не раньше, а теперь, незадолго до расставания, Рубен спросил об этом? Он ждал ответа, а я молчал: та, давно пролетевшая минута словно бы возвратилась. О, я запомнил ее на всю жизнь!
— Спасибо, — вдруг сказал Рубен очень тихо. — Спасибо, брат...
...А сегодня мы простились. Ночь пролетела, как многие другие, перед утром прошел дождик, и березка, радостная, умытая, заглядывала в окно.
Я решил держаться, не выказать, что волнуюсь, и, когда сказал: «Будь счастлив, друг...», голос мой прозвучал спокойно и твердо. Но губы дрогнули, и задергались брови, щеки, все лицо. Как же это было некстати! Я стоял, расставив костыли, и гримасничал, силясь улыбнуться.
— Не надо, — мягко сказал Рубен. — Не переживайте. Вот мне и самому стало трудно дышать. Я ждал этой минуты как радости, но в ней печаль.
— Ничего. Это скоро пройдет, Рубен. А пережитое с нами.
— Нам еще многое предстоит пережить, Клавич. И пусть. Это завидная доля —- сражаться за счастье на земле.
Он медленно повернулся, оглянув палату, и стал спускаться по лестнице.
* * *
На этом кончаются записи Клавича, которые он назвал «Конспектом Жизни». Есть еще в его тетради телеграмма, присланная Рубеном из Москвы, за подписью «Друг-баск». По-видимому, Янка берег эту телеграмму, аккуратно приклеил ее к странице.
На титульный лист своего Конспекта Клавич положил живую гвоздику. Она, конечно, давно засохла, но накрепко склеилась с шероховатым листом.
Привлекает внимание последняя фраза, написанная неразборчиво, наспех карандашом: «У нас была еще одна встреча, на пепле Сталинграда, но я не стану о ней писать».
Как и когда они встретились? Что недоговаривает Клавич? Нужно проследить дальнейшие события, чтобы его понять.
III
ВПЕРЕДИ СУДЬБЫ
В ОДИН ИЗ ВЕЧЕРОВ
За стенами этого дома у Рубена не было знакомых, ни единой души, и, значит, маршрут намечался короткий: комендатура — вокзал — поезд. Но, подавая ему документы, девушка сказала:
— Между прочим, вас ждут.
— Наверно, вы ошиблись.
— Спрашивали два раза, а с утра по телефону звонили.
Он взял документы, сунул в карман и, охваченный тревожным и радостным предчувствием, вышел на крыльцо. После полутьмы госпитального коридора небо, и солнце, и стекла окон, и сочная листва деревьев — все казалось красочным и нестерпимо ярким. Осенний башкирский день — сплошной синеватый кристалл — сиял и дробился искрами света.
У ворот госпиталя стояла женщина: скромный букетик алых гвоздик, любимых цветов Рубена, увял и поник в ее руке.
Какой-то старичок спросил сочувственно:
— Солдатика ждете?
— Солдатика.
Он горько поморщился:
— Все мы их, сердешных, ждем. Только многим не суждено дождаться.
Нет, она дождалась. И они встретились. Но странно это иногда случается в жизни: Рубен вдруг забыл уже давно приготовленные слова. Он сказал:
— Здравствуй, мама... — И потом, словно оправдываясь: — Не беспокойся. Все обошлось хорошо...
Она прикоснулась к его рукам, к плечам; пальцы задержались на щеке, на лбу Рубена, бережно поправили пилотку.
— Мой смелый...
Только два слова. Больше она ничего не сказала. Да ничего больше и не нужно было говорить: он знал, какое значение вложила она в эти слова, и понимал, что, может быть, впервые в жизни она так открыто им гордилась.
До гостиницы они ехали на такси; улицы были просторны и свободны, но шофер, как видно, не торопился. Два или три раза он обернулся, внимательно взглянув на мать, и выражение лица у него было такое, словно он старался что-то припомнить.
Сидя рядом с Рубеном и заглянув ему в лицо, мать спросила:
— Рана болит?
— Нет, все прошло.
— Это счастье.
Машина огибала парк, с пригорка открывалась излучина реки, тронутые желтизной луга, часто разбросанные копны, синяя кайма леса.
— Кого ты оставил в госпитале? — спросила мать. — Я заметила, ты вышел медленно, остановился, оглянулся, вздохнул, словно тебе было трудно с кем-то расставаться.
— В госпитале остался мой хороший товарищ, — сказал Рубен. Мы вместе были в бою. Раньше я не думал, что это так много значит.
Она взяла его руку.
— О, это много значит, Рубен.
— Ты это, конечно, испытала.
— Да, впервые еще в подполье. Люди сначала казались такими разными, но постепенно становились близкими, родными: перед ними постепенно открывалась одна простая истина, что если мы вместе в партии, значит, по сути, вместе в бою.
Лишь теперь она вспомнила о цветах:
— Смотри, гвоздики совсем увяли. Это потому, что они у меня с утра. В детстве, помнится, ты их любил. Теперь, Рубен, ты совсем взрослый, и детство осталось так далеко.
— Я пережил его снова. В госпитале. День за днем. Рассказывал товарищу, и он слушал с интересом. Право, что значительного в моей жизни? А если присмотреться — крупицы металла есть.
— Крупицы металла... — задумчиво повторила мать. — Знаешь, недавно в Москве ко мне приходили твои товарищи с автозавода. Спрашивали, тревожились — помнят. Они завидуют тебе. Тоже ушли бы на фронт, да нужно строить машины. Они работают дни и ночи. В цехе будто на поле боя. Это понятно: спешат. Машины прямо из цеха — на платформы и на фронт, и в каждой — письмо водителям. Одно я прочитала: «В этом могучем моторе, товарищ, биение наших сердец, наша сплоченность и воля, наш нестерпимый гнев. Мы отдаем машину в твои надежные руки...»
— Хорошие слова, — сказал Рубен. — Обрати внимание: все люди этой огромной страны мысленно на войне. В госпитале все раненые мечтают о возвращении в свои дивизии. Я знаю, ты не станешь меня удерживать.
Она засмотрелась на реку, и Рубен заметил, как дрогнули углы ее губ.
— Нет, — сказала она. — Не стану.
Вечером из гостиницы Рубен дозвонился в госпиталь и попросил пригласить к телефону Клавича. Знакомый, заметно удивленный голос спросил:
— Интересно, кто может знать меня в Уфе?
— Товарищ по оружию.
Салуд! — весело прокричал Янка. — Завтра, надеюсь, навестите затворника? Однако слушайте главное: у меня лишь полминуты времени — отнимают трубку, главное, чтобы вы не спешили на фронт. Я думал об этом и сейчас думаю. Вам нужно окрепнуть, набраться сил. Обещаете? Очень хорошо! Жму здоровую руку!
Не отрываясь от своих бумаг, разложенных на столе, мать спросила:
— Это, наверно, тот, с которым ты был вместе?
— Да. Мы стали братьями. Он закрыл меня собой от пулеметной очереди.
— Все же удивительна жизнь, — задумчиво произнесла она. — Друг приходит в решающую минуту, но не сразу узнаешь, что он рядом.
— Ты тоже встретила кого-то из знакомых?
— Конечно. И в поезде, и в этом городе, и в гостинице. Неважно, что раньше мы не встречались. Есть верное чувство, что мы всегда были вместе.
Она приоткрыла окно, и голос города стал явственней.
— Я приехала вчера под вечер, а сегодня утром мне сообщили, что сюда на короткое время прибыл товарищ, о котором ты, Рубен, когда-то расспрашивал меня.
— Но это не просто вспомнить, о ком я расспрашивал тебя...
Она продолжала писать. Рубен не хотел мешать ей, тихонько встал и вышел в коридор. Где-то близко минорно звучал рояль. Через открытые окна донесся настуженный бас пароходной сирены. Ворвался нерезкий ветерок, и запахло спелыми яблоками.
Рубен остановился у колонны. Малый и слабо освещенный зал был пуст. Только в самом углу, за черной граненой глыбой рояля смутно вырисовывалась одинокая фигура. Незнакомец играл для себя — быть может, о себе, о простой, беспокойной душе, которую невозможно до конца и полностью выразить. Именно так понимал сейчас Рубен и певучую жалобу рояля и улыбку, сменившую лирический говор струн.
Временами Рубену казалось, что когда-то и где-то он уже слышал и эти ясные, песенные интонации мелодии, и угрюмый набатный гул, и лихой переклик голосов, и глубокую, сильную радость мажора.
Прошло, наверное, не менее часа, а Рубен все слушал, почему-то опасаясь выдать свое присутствие. Он вспомнил, как на маленькой станции под Смоленском, где госпитальный эшелон был надолго задержан, потому что проходили срочные воинские поезда, в раскрытое окно вагона ворвалась песня. Раздольная, дружная и лихая, она унеслась на запад, и вагоны солдатских теплушек отсчитывали ее такты. Сестра сказала, что это пели солдаты с Украины.
Сейчас он был уверен, что седой человек, склонившийся у рояля, знал ту песню. Два или три раза она прояснялась то смутно, то отчетливо в размеренном музыкальном потоке. Но вот уже смолк, затаился в полутьме рояль, хранящий столько радости, тоски и страсти, а седой музыкант сидел неподвижно, слушая звуки, которые уже унеслись.
Рубен отступил от колонны, и незнакомец его заметил:
— Я здесь, оказывается, не один!
— Вы отлично играли, — сказал Рубен. — Только я не знаю названия этой вещи...
Музыкант протянул руку и включил над маленьким столиком свет.
— Право, я тоже не знаю.
— Вы пишете музыку?
— Нет, но люблю.
Теперь, при мягком свете лампы, Рубен разглядел его: пожилой, с резкими морщинами — следами пережитого, с еле приметной, сдержанной улыбкой и внимательным взглядом карих, по-юношески ясных глаз. Из-под темного пиджака виднелся расшитый скромной каемкой воротничок сорочки, а на лацкане смутно поблескивал орден.
— Вы, юноша, наверное, музыкант? — спросил он. — Жаль, что ваша рука забинтована, я бы с удовольствием вас послушал.
— Вряд ли, — усмехнулся Рубен и подумал, что ему было приятно говорить с этим незнакомым человеком. — Иногда играет моя мама, а я люблю слушать.
Седой внимательно взглянул ему в лицо.
— Вы сказали — «мама». Взрослые обычно говорят — мать. Но если от взрослого слышишь это слово — мама, оно всегда трогает. Вообще я считаю, что ласковей и нежней нет слова. А когда его произносит воин, побывавший в боях, раненый, тогда...
Он умолк, обернулся к окну. С улицы доносились песня и гулкий солдатский шаг. Случайный разговор казался Рубену интересным, и он спросил:
— Что тогда?
— Тогда это поэзия, — сказал седой.
Они помолчали, пока прошли солдаты, и седой заговорил первый.:
— Что в ней за сила, в маршевой солдатской песне! Она завораживает и поднимает, захватывает и ставит в строй.
— Сначала я подумал, что вы композитор, — сказал Рубен. — А теперь начинаю понимать...
Собеседник мягко прервал его на полуслове:
— И что нам играть в догадки? Вы воин. Я поэт. Собственно, мы оба воины. Давайте знакомиться, Максим Рыльский... Запомним, что встретились мы в полутьме и что свела нас музыка.
— Нет, еще раньше стихи. Я читал их в госпитале. Там есть несколько ваших книг с автографами. Раненые рассказывали, что вы приходили к ним.
— Это было недавно, и, если бы вы остались в госпитале до завтра, все равно мы познакомились бы. В госпитале среди раненых много украинцев. От них я получил наказ приходить каждое воскресенье.
Они медленно пошли по коридору, и поэт спросил:
— Вы, лейтенант, ни слова о себе. Я слышу у вас акцент, и временами вы как будто с усилием подбираете слово. Откуда вы, с Кавказа? Что? Из Испании? Какими же судьбами, лейтенант? — Карие глаза поэта молодо блестели. — Вот встреча! А ведь она — тема... Сантандер и Свердловск, Уэска и Уфа, Баскония и Башкирия. Нет, это не просто созвучные слова. Между нашими городами, между народами давно уже переброшены мосты. Есть темные силы, которые всячески пытаются эти мосты разрушить, но время служит народам, а темные силы обречены.
Он резко остановился, достал блокнот.
— Мосты... Да, так я назову новую книгу. Вы, Рубен, строитель этих мостов. Наши воины, те, что сражались в Испании, возводили могучие опоры. Среди них было много безымянных героев, о которых нужно сложить песни... Вы слышали об украинском солдате Иване Вальчуне?
— Нет, расскажите...
Незаметно они вернулись в холл, снова постояли у окна, присели на диван. Закурив сигарету и сразу же забыв о ней, Рыльский заговорил негромко:
— Впервые я услышал об этом человеке в Ровенской области, в Млыновском районе, примерно за год до начала войны. В пору, когда Польшей правили пилсудчики, по всей Западной Украине шла молва об Иване Вальчуне. отважном борце за лучшую долю народа. Много раз он был арестован, много раз бежал из тюрем, находя в любом селе верных товарищей и друзей. Все же дефензива снова выследила его и схватила, увезла в Дубно и заключила в одну из самых мрачных тюрем, уверенная, что теперь уже навсегда покончено с Вальчуном. Однако Вальчун опять бежал. Этот побег казался делом сверхъестественным, невероятным. Иван и его товарищи сделали подкоп: им было, пожалуй, не легче пробить эту нору сквозь камень под фундаментом тюрьмы, чем герою Дюма сделать ход в стене замка Иф. Землю они прятали в матрасах, в подушках, а во время прогулок разбрасывали по крупице. Иван говорил своим друзьям: «А все ж таки, хлопци, мы вирвемось на волю!» — и так велика была его жажда жизни и борьбы, что даже самые слабые верили ему. Верили — и вышли на свободу.
В родном селе, у отцовской хаты, взял Иван на прощанье горстку земли, пересек всю Польшу и ушел в Австрию. Но из Варшавы сразу же позвонили в Вену: «Опасный преступник. Задержать!» И австрийские шпики бросились по следу. Очень спешили, но опоздали: он успел уйти в Швейцарию. Из Швейцарии — во Францию, на Пиренеи, а затем — в Испанию, в Мадрид. Там Вальчун вступил в Интернациональную бригаду.
В бою под Гвадалахарой Ивану не повезло: раненый, он остался ночью на территории противника. На рассвете к нему вернулось сознание и, собрав последние силы, он стал ползти к своим. Его заметили фашисты и, видимо, решили взять в плен. Патронов у Вальчуна не осталось, но последнюю гранату он берег. Бросить ее далеко он уже не мог, поэтому подпустил фашистов совсем близко. Зато теперь он швырнул наверняка... Четверо фашистов были уничтожены. Когда его окружили два десятка солдат, Иван ничего не видел и не слышал: ранение, полученное в бою, было серьезно, и он опять потерял сознание. Фашисты совещались: как отомстить ему, полумертвому, за своих? Пытать? У них не было времени. Взять с собой — лишняя забота.
«Пускай он подольше помучается», — решил унтер и пригвоздил Ивана штыком к земле. Штык так и остался в груди Вальчуна, и фашистское войско, проходившее поселком, замедляло шаг и смотрело, как мучается неведомый солдат-республиканец.
Весь род Вальчуна — отец его, и дед, и прадед — отдал жизнь земле: пахал ее, бороновал, растил хлеб и тут, как в сказке, хочется верить, что потому и сберегла она Ивана.
Ночью Иван пришел в сознание, встал, вырвал из груди штык и, шатаясь, пошел в сторону фронта... Оврага он не заметил — шагнул с обрывистой кромки и скатился на самое дно, снова потеряв сознание.
Рыльский порывисто встал, сделал два шага к окну и возвратился.
— Нет, Рубен, это не легенда. Это живая поэма воли и отваги. Поэма долга, как его понимает коммунист. Он хотел жить, чтобы бороться. Ценность жизни, смысл ее для него были в борьбе. Его морили в карцерах, пытали на допросах, не раз пытались убить. Враг был один и тот же и там, на польской, и здесь, на испанской земле. Но в любом краю друзей было неизмеримо больше. Эта мысль и поддерживала его в фашистском госпитале, похожем на застенок. Здесь его лечили, чтобы потом разыграть комедию суда и расстрелять. Он это знал и не рассчитывал на снисхождение.
Однажды утром санитары увидели, что его койка свободна. Он даже оставил насмешливую записку: «Здоровеньки булы! Ще побачимось...» Погоня его не настигла, а дорогу на родину он знал хорошо. Кто знает, Рубен, быть может, вы с ним встречались где-нибудь в... «Гренадской волости»?
— А ведь это вполне возможно, — согласился Рубен. — Есть люди удивительной судьбы, но разве их тотчас же отличишь? Послушайте, я думаю, не ему ли, Ивану Вальчуну, наш славный Мигель Эрнандес посвятил замечательные стихи? Недавно я встретил их и в русском переводе, и мне запомнилось несколько строк.
— Мигель Эрнандес? — переспросил Рыльский. — Самородок в поэзии, в прошлом батрак и пастух? Что ж, и он мог встретить Вальчуна, и не удивительно, если бы зажегся... но стихи?
— Жаль, я помню их не полностью, — сказал Рубен. — Только эти строки:
Есть люди на земле, в их сердце необъятном
Суровый рокот волн, шум улиц городских,
Лиловый сумрак гор в безмолвье предзакатном...
Таким предстал ты мне: ведь ты — один из них.
...Тебе Испания открыла сердце. В ней
Нашел все зори ты и всех морей приливы,
Всех благородных душ безудержный порыв.
Всю землю пронизав кинжалами корней,
Из праха твоего поднимутся оливы,
Род человеческий тобой объединив...
Поэт задумчиво улыбнулся:
— Душа Эрнандеса и Вальчуна, моя и ваша, — это одна большая душа, Рубен, и, позвольте, я продолжу заветную думу поэта пастуха на языке моей родины...
Он глубоко вздохнул, откинул седую голову к спинке дивана: четкий высоколобый профиль на широком, подсвеченном снизу квадрате окна был тонок и выразителен. Читал он немного нараспев, без признака артистичности, лишь иногда коротким и сдержанным движением руки словно бы подчеркивал слово:
Украіно моя! Часті хвилі лaнiв,
Променисті міста, голубінь легкокрила,
Украіно! Сьогодні звірів-ворогів
Ти грудьми вогнянними зустріла.
Украіно, живого труда сторона,
3opi ясні, погожіі тиxii води,
Украіно, ти в славній борні не одна,
В ній з тобою під стягом багряным народи!
Бачиш — руський з тобою, башкир i таджик,
Друзі, браття твoi, громоносна лавина.
Свят союз наш, народ непоборен повік,
Нездоланна повік його сила левина.
Мати ніжна моя! Знай: по бypиi тяжкій
Перемога засяе дзвіка i погідна.
Славен буде в народах священний твій бiй,
Славен серп твiй меч твій, свята моя, piдна!
Некоторое время они сидели молча; в окно ворвался прохладный, пахнущий хвоей ветер; где-то далеко печально прокричал паровоз.
— Я все понимаю. От слова до слова, — сказал Рубен. — Наверное, это потому, что такие чувства, как любовь и ненависть, понятны всегда.
Увлеченные, они не заметили, как в малый, полутемный зал вошли двое, с минуту постояли у колонны, потом мужчина приоткрыл крышку рояля и придвинул женщине стул.
Уверенно, порывисто прозвучала первая фраза. Встрепенувшись, поэт шепнул:
— Тихо... «Аппассионата».
Рубен поспешно встал.
— Мама.,, ты?
Звуки прокатились и замерли, и знакомый голос произнес по-испански:
— Я знала, что ты услышишь и придешь. Но ты, оказывается, и не уходил.
— Мне, знаешь, повезло! — весело отозвался Рубен. — Я познакомился с товарищем поэтом.
— Я рада, — сказала она. — И тоже с удовольствием познакомлюсь. А вас познакомлю с товарищем Георгием...
Человек, стоявший у рояля, сделал шаг вперед. Плечистый, с большой непокорной шевелюрой, с задумчивым и волевым лицом, он показался Рубену вытесанным из камня. В нем сразу угадывались сосредоточенность и внутренняя сила.
— Счастливый вечер! — негромко, взволнованно произнес поэт.
Человек крепко пожал ему руку. Потом он подошел к Рубену, внимательно заглянул в лицо и улыбнулся удивительно молодыми глазами.
— О чем задумался наш бывалый солдат?
Чувствуя, как стучит сердце, Рубен окончательно
уверился, что перед ним стоит тот, бесстрашный, чье слово затаив дыхание слушал весь мир, чьей волей преступные судьи и весь фашистский верх были посажены на скамью обвиняемых. Это был Георгий Димитров.
— Ты собираешься уезжать? Знаю, — сказал Димитров. — Конечно, ты снова пойдешь на фронт. Это война, и разное может случиться. Но помни, постоянно помни, что тысячи наших беззаветно умерли за нас — за тебя, за меня, за ту детвору, что — слышишь? — перекликается на улице. И мы, если нужно, умрем не колеблясь ради жизни и счастья, мой друг Рубен...
СРЕДИ ДРУЗЕЙ
На вокзал Рубена провожала мать. За короткое время здесь, в Уфе, у них появилось много друзей и знакомых, но с матерью было условлено к поезду ехать только вдвоем. Она говорила:
— Мы всегда в людском круговороте — всю жизнь. Пусть эти минуты будут нашими.
В Уфе в ту пору еще здравствовали извозчики, и, наняв пролетку, мать сказала:
— Как в Соморростро! Помнишь, мы брали извозчика, когда уезжали в Мадрид.
— Только пейзаж другой, — заметил Рубен. — И ты уже не учишь, как я должен себя вести.
Она улыбнулась.
— мальчик из Бискайи, ты на Урале. Все же удивительно, правда?
— Все правильно, — согласился Рубен. — Кроме слова «мальчик».
— Для матери, — сказала она, — дети всегда остаются детьми. Быть может, со временем ты отпустишь бороду и огромные усищи, но... для меня ты останешься моим ребенком. Даже с бородой.
Рубен смеялся.
— Интересные вы люди, мамы! И как согласуются у вас огромные и маленькие заботы? Я помню, когда в Бискайе победно гремела забастовка, ты пришла с митинга домой ликующая. И тут же очень, очень огорчилась, узнав, что Амая не выпила чашку молока.
— Могу тебе ответить крылатыми словами, — сказала мать. — «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Правда, есть и такие деятели, что делают вид, будто они не от мира сего. Пустое позерство. Мы люди из народа, из самой глубинной толщи его, и все человеческое — наше.
Заговорили о Москве, и она дала Рубену письмо к Лепешинским и несколько адресов.
— Передай Пантелеймону Николаевичу, что увидимся скоро. Как только позволят дела, возвращусь в Москву.
Провожающих было немного: две бойкие девушки с букетом полевых цветов, старушка в черной шали, пожилой мужчина с малышом на руках да у двери вокзала раненый солдат на костылях. Рубен подумал: похож на Янку Клавича. Но Клавич не мог покинуть госпиталь, и Рубен не приглядывался к солдату.
А это и действительно был Клавич. Он знал время отъезда Рубена из разговора по телефону и, перехитрив санитарку, ушел из палаты. Теперь его ждал крепкий нагоняй, однако Янка не думал об этом. Он понял, что Рубена провожает мать, — именно такой Клавич и представлял ее. Подойти к ним он не решился, стоял и смотрел, как дрогнули и медленно двинулись вагоны, как женщина шла, все ускоряя шаг, рядом с подножкой, а Рубен, свесившись из тамбура, махал ей пилоткой. Поезд умчался, и Янка, чувствуя себя очень усталым, неторопливо побрел к госпиталю.
«Тот маленький солдат на костылях был очень похож на Клавича, — снова подумал Рубен; забираясь на вторую полку. — Но мало ли солдат на костылях?..» Он лежал и смотрел в окно. Быстро промелькнули окраины города. Поезд шел высокой насыпью: от самого ее подножья до смутных, расплывчатых горизонтов под небом глубоким и синим стлались волнистые хлеба. Свежий и упругий ветер доносил запах колосьев и каких-то пронзительно-душистых цветов. Мир добрых нив, кудрявых перелесков, прозрачных речек, пестрых лугов, тихих озер и светлых суходолов медленно вращался у окна, просторный и красочный.
«До чего же красивые края, — думал Рубен, подставляя ветру лицо и приятно ощущая то подогретые, то прохладные струи. — И как ощутимо наполнены они силой. Даже на солончаковых пролысинах буйно растет трава, а за голые скалы жадно цепляется кустарник». И еще он подумал о русских песнях. Вот и сейчас откуда-то с поля доносились с порывом теплого ветра поющие голоса. В песне тоже простор и манящие дали, как будто безбрежный мир степей и лесов слились с душевным безбрежием народа.
Вспомнился Клавич, как он стоял в палате у окна и смотрел на звездное небо, как встрепенулся, провожая взглядом метеор.
— Неведомый мир, — сказал он тогда, — пронесся в одно мгновение, и нет возврата. Слушайте: березка прошумела, и это мгновение прошло. Оно не повторится никогда. Странно это сознавать: только что была реальность — и нет ее, и она не повторится. А память? Разве эта маленькая мимолетная реальность, мгновение не оставит в памяти ни малейшего следа? Но не из них ли, не из бесчисленных ли мгновений слагается человеческая душа?
Янка долго молчал, опираясь на костыль и глядя на звезды, и его голос звучал значительно:
— Да, из бесчисленных мгновений слагается душа, а самые ценные мгновения — в людях, в узнавании людей, в душевном обмене с ними. И это важно осознать, друг Рубен, теперь, когда мы возвращаемся в жизнь.
Рубен повторил эти слова: возвращаемся в жизнь. Возвращаемся, и с жадностью дышим, и видим, как
бесконечна она, увлекательна и ярка, но все же торопимся к определенным нам минутам, к рубежам страдания и смерти.
Здесь что-то было недосказано, что-то важное, и он легко, без усилия нашел слова.
— Ради жизни, — сказал он вслух и отодвинул занавеску, а ветер подхватил ее и разметал.
Раннее утро, но Москва уже давно проснулась — она как будто и не спала всю ночь.
Знакомые остановки трамвая, пересадка на троллейбус, и вот проходная автозавода, где словно еще вчера Рубен предъявлял свой пропуск. Все тот же бессменный старичок Макар Григорыч у проходной, но теперь за плечом у него винтовка. Строгим, колючим стал взгляд из-под насупленных бровей.
— Если вы, товарищ лейтенант, за машинами, обращайтесь в главную контору.
— Нет, Григорыч, я хочу побывать в своем цехе. Помните, вместе когда-то ходили на стадион...
Взгляд старика становится теплее.
— Ух ты, голубчик... значит, фронтовик?!
И снова строго сдвинуты седые брови.
— Пропуск. Чтобы все по форме...
В заводском комитете комсомола — новые, незнакомые Рубену парни и девушки. Разговор подчеркнуто деловит: он называет фамилии и узнает, что почти все его заводские товарищи на фронте. Только маленькая, смешливая, курносая машинистка изумленно смотрит на гостя, робко подходит к нему и вдруг крепко обнимает.
— Ребята... ведь это же Рубен! Он вернулся из госпиталя. Мы недавно навещали его маму.
Удивительно, как сразу же переменились эти люди — они слышали, что он работал здесь.
— Вижу, ты озадачен, — сказал рыжий чубатый парень, не выпуская руки Рубена и глядя ему в глаза. — А дело тут самое простое: твоя фамилия у нас на Доске почета, и фотография, и надпись: «Слесарь нашего инструментального, ныне командир пулеметной роты». Там, кроме твоей, много фамилий. И вчера мы встречали твоего дружка, тоже слесаря, Васю Корнева, истребителя вражеских танков... Помнишь Васю?
— Помню, — сказал Рубен. — Мы работали в одной смене.
Худенький кудрявый паренек посыпал скороговоркой:
— Я, конечно, сам не слышал, но ребята рассказывали, как вы им рассказывали, товарищ Ибаррури, про битвы в Испании, а потом они рассказывали и еще сейчас рассказывают...
— Ну, рассказчик! — засмеялся чубатый. — Ты хочешь что-то предложить?
Паренек шумно вздохнул и поморщился.
— Слов, понимаете, недостает... А хочу я, чтобы ребята наши собрались и товарищ Рубен рассказал нам, как воевал...
Все засмеялись, а чубатый повысил голос:
— Дело! Где бы нам собраться? Может, в молодежном общежитии?
— А если в цехе после смены?
— Я с охотой, — сказал Рубен. — Только на многое не надейтесь. Что видел, о том расскажу. А сейчас хотелось бы пройти по цеху. Все же четыре месяца стоял у верстака.
— Верно, — согласился чубатый. — Пошли.
...И вот он, знакомый пролет инструментального, блики солнца на черных станинах, серебряные кудри стружки, размеренный гул, звон...
Из тени, от колонны, поддерживающей свод, кто-то высокий шагает навстречу, и сильные теплые руки ложатся на плечи Рубену.
— Вернулся?.. Ну-ка покажись... — Старый усатый мастер Алексеев легонько поворачивает Рубена перед собой, треплет по плечу, отступает на шаг и смотрит оценивающе. — Записываю в мою бригаду. Согласен?.. Слесарное дело, надеюсь, не забыл?
— Еще не закончены дела на фронте, Иван Семеныч. Я возвращусь в строй.
Мастер неловко подносит руку к виску.
— Вот за это, брат, уважаю. И сам просился, но военком прогнал. Ты, говорит, батя, адресом ошибся: дом престарелых через два квартала. Ну, я и отрезал ему, что с таким престарелым не советовал бы впоперечную схватиться, согнет как лозу. Что ж, только посмеялся и выпроводил за дверь.
Мастер крепко взял гостя под руку, и они подошли к тому верстаку, где Рубену была знакома каждая зазубринка на тисках и пятнышко на столике. Он узнал свой драчовый напильник, зубило, молоток. Удивительно, что все сохранилось, как будто лишь вчера он ушел из смены, а сегодня вернулся снова.
У верстака стояла хрупкая кареглазая девушка лет шестнадцати. Она, по-видимому, побаивалась мастера и теперь смущенно рассматривала какую-то деталь.
— Вот кому, Рубен, мы доверили твой верстак, Машеньке, — пробасил мастер. — Ну, дочка, узнаешь?
— Мы никогда не виделись, — сказал Рубен. — Узнать не просто...
Чубатый стал рядом с Машенькой.
— Как же не виделись? Каждый день видитесь! Что же ты, девонька, смутилась?
Машенька взглянула на Рубена и зарделась. Он приметил, как удивленно дрогнули ее брови, дрогнула смешливая черточка у губ. И лишь сейчас, перехватив взгляд Машеньки, Рубен увидел на стене, над верстаком, свою фотокарточку в скромной металлической рамке. Теперь и он смутился.
— Знаете, не ожидал. Честь не по заслугам.
— Ну, нам виднее, — многозначительно пробасил мастер. — А рамку Машенька сама сделала. Да ты пройди вдоль верстаков, у нас тут целая галерея.
Над соседним верстаком, у которого, склонясь над тисками, сосредоточенно шлифовал какой-то угольник загорелый паренек, Рубен увидел фотографию с надписью: «Танкист Глаголев. Будем как он».
Рубен сразу приметил удивительное сходство между этим танкистом в шлеме, с боевым орденом на груди, и пареньком, склонившимся у верстака. Но вот паренек выпрямился, улыбнулся, и сходство стало еще разительней. Рубен понял — брат! Рамка была обведена траурной каемкой, но косой солнечный луч скрадывал цвет, и Рубен не сразу заметил каемку.
— Значит, Глаголев?
Паренек смотрел прямо и строго.
— Да.
— В цехе ты заменил брата?
— Он так хотел.
— Анатолий Глаголев уничтожил четыре танка противника, — негромко произнес чубатый и осторожно поправил на стене рамку. — Он был хорошим слесарем и танкистом.
— Мы могли, Василий, быть соседями по работе, — заметил Рубен. — Соседями и друзьями.
Паренек по-прежнему смотрел строго.
— Что ж, если соседство не состоялось... Будем друзьями.
Он улыбнулся, и они обнялись, и скорбной, по-детски доверчивой близостью повеяло на Рубена от паренька, от его замасленной тенниски, от пахнущих теплым хлебом волос, и, наверно, было в этой минуте что-то сокровенное и большое, потому что третий спокойным и добрым взглядом смотрел из траурной рамки на них.
Завод... Его мало назвать местом работы. Просто назвать — школой. Тысячи людей собираются ежедневно, чтобы соединить свои усилия. Еще в детстве, на шахтах Соморростро, Рубен ощутил притягательную силу большой рабочей семьи. Как отчетливо и здесь она прояснилась с первого шага, с первой смены в инструментальном. Человек по самой сущности своей — творец, и здесь он по-настоящему себя находит.
Если бы не война...
С завода Рубен возвращался вместе со сменой: шли токари, слесари, штамповщики, электросварщики, сборщики, кузнецы — могучая молчаливая толпа. На заводской площади, где аллеи у цветочной клумбы сливались, люди замедлили шаг, сдвинулись плотнее, остановились. Диктор читал очередную сводку Совинформбюро... «Наши войска оставили...» Следовали знакомые названия городов и станций. «Наши войска ведут тяжелые бои...»
Рубен напряженно всматривался в неподвижные лица, на которых поблескивала металлическая пыль. Они казались литыми из металла. А когда голос диктора смолк, было в той тишине веяние предгрозья.
Он не слышал ни жарких речей, ни призывов, ни вздохов: люди молчали — спокойно и открыто встречали они трудную судьбу, и Рубену невольно подумалось, что так же до поры молчит и металл снарядов, гранат, пулеметов, гаубиц. Верилось, что живая сила, спаявшая этих людей-творцов, никогда не ослабнет, не дрогнет, и сами они это отлично знали, и потому спокойно смотрели на циферблат часов — близилось их время.
Домой, к Лепешинским, он возвращался пешком. Еще в довоенную пору, познакомившись с Пантелеймоном Николаевичем в кругу друзей матери, внимательно присмотревшись к этому седовласому, задумчивому человеку, Рубен проникся к нему добрым доверием и симпатией. В облике Лепешинского, в ясном и теплом взгляде, в манере просто и четко высказывать мысль, как бы советуясь с собеседником, была та непосредственность, которая словно бы сокращала расстояния между незнакомыми людьми: уже после первой встречи и разговора Рубену подумалось, что Пантелеймона Николаевича он знает очень, очень давно.
А потом незаметно и просто между ними и действительно возникла дружба. Что особенно влекло его в эту семью испытанных старых революционеров — молодость духа, отличавшая и Пантелеймона Николаевича и Ольгу Борисовну. Казалось, не было в стране, да и во всем мире такого события, которое не затронуло бы этих юных душой ветеранов партии, имевших счастье лично знать великого Ленина, разделять с ним невзгоды сибирской ссылки, выполнять его задания.
Трогала Рубена и простая сердечность, что была как бы атмосферой этой семьи: здесь слово каждого было значительно, веско и вызывало интерес, и здесь Рубен впервые стал уверенно говорить по-русски, не стесняясь своего испанского акцента. Иногда его поправляли или, случалось, давали житейский совет, но и к нему, как равному, иногда обращались за советом.
Он видел, что и мать душевно отдыхала в этой семье и потому охотно навещала Лепешинских, а у Рубена чувство почтительного уважения к Пантелеймону
Николаевичу и Ольге Борисовне постепенно переросло в привязанность, в преданность, в сознание родства.
Случалось, он оставался у Лепешинских на день, они относились к нему будто к сыну. Поэтому прямо с вокзала он и направился домой, то есть к Лепешинским, и они ждали его.
Пантелеймон Николаевич говорил:
— Присмотрись, мой друг, к этому удивительному городу — Москве, и ты увидишь, что она спокойна: она хорошо знает свои силы. Прислушайся к ее дыханию, Рубен, и ты поймешь, как оно здорово и как уверенно сердце Родины. Пройди по городу — слушай, смотри, запоминай: здесь зреет великая победа.
И Рубену было волнующе-интересно приглядываться к жизни города, прислушиваться к его ритму. В ясном высоком небе парили аэростаты заграждения. Время от времени проносились истребители, перекатывая по крышам отрывистый гром. Ярко освещенные солнцем плыли голубые шары: значит, минуту или две назад открывали огонь зенитки. Фронт проходил недалеко от Москвы, и она, конечно, слышала и вопли Геббельса, и проклятия Геринга, и угрозы Гитлера сровнять ее с землей, но вагоновожатые привычно вели трамваи, дорожники снимали истертый асфальт и настилали новый, ремонтники штукатурили дома, и из-за дощатых ограждений с буквой «М» тянулись вереницы самосвалов, груженных землей и камнем, — Москва продолжала строить свое чудесное метро.
Удивительный город, он был спокоен: ему еще предстояли великие дела, а огненный ветер войны обжигал эти древние стены не впервые.
Рубен любил Москву, строгую и добрую, шумную и величавую, с тихими переулками, с яркими площадями, с башнями Кремля, уносящимися в столетия, с гордым знаменем над зубчатой стеной, над зеленоватым куполом, словно над всей планетой. И была безотчетная радость в узнавании знакомых улиц и площадей, бронзового Пушкина на Тверском, глазастого здания «Известий», бело-алого и торжественного Моссовета, книжных магазинов, полных народа и теперь, в суровую пору войны, гостиницы. «Москва», ГУМа, удивительного, как сказка, храма Василия Блаженного...
Вспомнив о Клавиче, Рубен возвратился на Центральный телеграф. Только четыре слова: «Привет Москвы брат баск» — а сколько у Янки будет радости. Вот кого недоставало Рубену здесь, в Москве, — Клавича. Прав был Янка: они породнились еще тогда, в бою на Березине. Почему это случилось, разве объяснишь? Почему в те памятные дни и ночи, в решающие минуты жизни Янка Клавич непременно оказывался рядом с Рубеном? Неисповедимы на войне пути солдата, и нередко горьки его разлуки и удивительны встречи. И как было не вспомнить это изречение Янки сейчас, одно из его бесчисленных изречений, когда, взглянув на военного, который сидел за столом напротив и сосредоточенно писал письмо, Рубен словно бы расслышал сквозь гром артобстрела голос комбата Сергейчука: «А у соседа справа артиллерийской батареей командует Артем...»
Военный поднял голову и узнал Рубена. Они одновременно вскочили из-за стола. Соседу Артема, взъерошенному старичку, который вовремя придержал чернильницу, не дав ей опрокинуться, слова приветствия, какими эти двое военных обменялись, могли показаться, конечно, странными.
— Мост... Молодцы, вы удержали мост! — волнуясь, торопливо говорил Артем, немного отстраняя и разглядывая Рубена. — О, что там было, у моста!
— Як тебе на батарею собирался, — сказал Рубен. — Крепко вы тогда по немецким танкам грохнули! Сколько подбили? Слышал, десяток?
— Ну, положим, свыше двадцати. Точнее: двадцать четыре!..
— Жаль, я к тебе не пробрался. И рядом находились и... далеко.
— Да и не мог бы пробраться, Рубен. Это было невозможно. Ладно, сдавай свою телеграмму, и выйдем. Не чаял, не надеялся свидеться.
Молча дошли до Тверского бульвара, отыскали свободную скамью.
— Стоп, отдать якорь! — шутливо приказал Рубен. — В мире все удивительно; я в этом еще раз убеждаюсь: осмотрись и вспомни, когда-то на этой самой скамейке мы жарко обсуждали с тобой футбольный поединок «Торпедо» — «Спартак». Ну, товарищ капитан, рассказывай. У тебя, я вижу, нашивки ранений, и это она же, Березина?
— Она мне запомнилась, — сказал Артем.
Рубен все присматривался к нему, загорелому, исхудавшему, с резкой чертой над бровью, с терпеливо-упрямыми складками по углам губ.
— Ранения... осколочные?
— Два штыковых. Остальные осколочные и пулевые. А всего девять.
— Подумать, мы находились там, на Березине, может, на расстоянии километра друг от друга, а чтобы свидеться — одолели тысячи километров!
— Мы находились и поближе, — заметил Артем. — Тогда, у моста, я встретил командира твоего полка майора Новикова: он пробирался в блиндаж комбата Сергейчука. Я спросил: «Что, Ибаррури жив ли?» — а майор только махнул рукой.
— Я понимаю майора, — сказал Рубен. — Он знал, что третьей роте нелегко: она оказалась на острие вражеского клина. Вечером Новиков сам меня запрашивал, сколько раненых. Я вынужден был ответить: «Все».
— Да, третья сражалась отлично, — подтвердил Ар тем. — У тебя были замечательные солдаты. Ну, такие, например, как Дацко, Федосов, Корочкин...
Рубен в изумлении подхватился со скамьи.
— Погоди... Откуда ты знаешь эти фамилии?
Артем засмеялся.
— Солдатская слава, брат, не дремлет: птицей летит!
— А все же?
— С Дацко и Федосовым я встретился в лесу, в десяти километрах от Борисова. От них и узнал, что ты... погиб. Услышал и о бравом солдате Корочкине. Три танка уничтожил! Это солдат! Я думаю, что именно его сейчас в нашей компании и не хватает: появись он сейчас, богатырь, да присядь рядышком на скамейку, право, можно было бы поверить в сверхъестественное: трое погибших весело беседуют на Тверском! Впрочем, и такая встреча, как наша, тоже из серии чудес: мы ведь как бы свершаем «второе пришествие».
— Ты тоже числился погибшим? — спросил Рубен. — Что мать? Ей, конечно, сообщили?
— Она получила две похоронные. Первую — вскоре после боя. Вторую — после «тщательной проверки». А потом, через месяц, у двери позвонил я.
Рубен задумался.
— Дивизия выполнила свою задачу. Нет, раньше я не знал, что в такой простой фразе может быть заключено столько страданий. Но для нас был решающе дорог каждый выигранный час, и дивизия выполнила свою задачу — она задержала наступление врага.
— У меня было сто шесть человек, — глядя перед собой, негромко, задумчиво говорил Артем. — Было четыре орудия и сто шестьдесят снарядов. Потом мы достали на поле боя еще тысячу снарядов и расстреляли их до одного. Тогда у меня оставалось в живых только семеро. Да, семеро из ста шести. И чудо: какой-то отчаянный конник доставил мне в те минуты благодарность комдива. Я огласил эту благодарность оставшимся семерым, и мы произвели в честь погибших товарищей салют из винтовок. Это называется парадоксом: вся батарея, и люди, и орудия, умерли, но они победили. Именно так я и понял слова благодарности: Первая Московская Пролетарская мотострелковая дивизия выполнила свою задачу.
— Ты пережил больше меня — сказал Рубен. — А твои планы? Если снова отбываешь на фронт, у тебя есть попутчик...
Артем разглаживал складки на его рукаве.
— Планы самые определенные, вечером иду в театр. С матерью. Конечно же, и тебя приглашаем. Ночевать можешь у меня. Ты остановился у знакомых? Что ж, им можно позвонить. Кстати, от меня можешь позвонить и в Уфу, поговорить с матерью. Что твоя славная сестренка Амая? Позвони и ей в Иваново. А касательно более широких планов, так мне приказано через два дня отбыть на фронт. Видно, так нам суждено, Рубен: войну мы с тобой закончим, когда отгремит последний выстрел.
— План утверждается, — решил Рубен. — К тебе, в театр и снова к тебе Звонок в гостиницу «Башкирия» обязателен. А касательно фронта, вот бы вместе, а?
— Охотно, — согласился Артем. — Врачебное заключение позволяет?
— В том-то и беда, что везде строгости. Должен ходить на перевязки.
— Так у тебя рана еще не зажила? Ну, братец, давай построже, посерьезней.
— А посерьезней — это значит: принимать витамины, регулярно измерять температуру и выключать радио? В общем не волноваться и соблюдать диету? Я не смогу, товарищ капитан, завтра же буду у военкома.
— Одобряю твое решение, — серьезно заключил Артем. — Деловито и мудро — к военкому. И важно повторить ему вот это: «не смогу». Тут он, конечно, напомнит офицеру о дисциплине. Скука — хворь лентяев, и тебе томиться ею не придется: сколько в Москве госпиталей? Проводи политбеседы с воинами. Сколько молодежи следует на фронт? И ей твое слово нужно. Сможешь работать — вернись на завод, туши по ночам «зажигалки», обучай парней и девчат своему «максиму» — вон сколько полезного ты сделаешь и не заметишь, как рана заживет.
Он наклонился к Рубену и спросил, словно по секрету:
— Еще вопросы есть?
— Есть, — ответил Рубен тоже тихонько. — Я касательно фронта. Вот бы вместе, а?
Позднее он не раз вспоминал этот вечер: квартиру Артема, и торопливые шаги его матери за дверью, и ее радостное удивление:
— Какое счастье... Ты жив, Рубен!
А потом даже не вопрос, вернее — ответ:
— И снова, конечно, на фронт?
Он смотрел на портрет другого, старшего Артема, чьим именем были названы города, заводы, площади, корабли.
— Иного решения и быть не может. На фронт, — сказал он.
...И вот уже притихший зал театра, медленно гаснущий свет, всплеск занавеса — и сказка о синей птице открывает волшебный мир... Словно краем сознания он успевает подумать: а где-то рвутся снаряды, батальоны развертываются в атаку, полыхают пожары, полосуют пулеметы и стонет земля. Неуловимо, незаметно подкрадывались смущение и стесненность, похожие на смутное чувство вины. Такое же чувство не давало ему покоя и раньше, когда радио доносило из далекой Испании отзвуки боев, а он отсчитывал медлительные часы в ожидании отъезда.
Неожиданно, в какие-то секунды тишины, знакомый голос произнес отчетливо: «Ну, братец, давай построже...» Рубен оглянулся.
— Ты что-то сказал, Артем?
— Нет, — отозвался он шепотом. — Смотри, какое волшебство!..
Рубен прикоснулся к его руке:
— Спасибо.
— Это... за что же? — чуть слышно удивленно спросил Артем.
— Я найду сотню дел... тысячу! И все они будут нужны.
— А, ты все о том же?
— Потому что это главное, — сказал Рубен. — Время идет, и нельзя утрачивать ни минуты. Время — это жизнь.
«ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ...»
— По крайней мере работа у меня сейчас такая, что в прописанном врачами снотворном нет ни малейшей нужды, — рассказывал Рубен медицинской сестре, приходя на перевязки. — Пока разыщешь где-нибудь на окраине добрые два десятка адресов или пока в центре отмеряешь лестницы этажей этак в двести, вот он сам собой и подкрадывается, сон, именно такой, как нужно, — глубокий и здоровый. Кроме того, я исследую матушку Москву и скоро буду знать ее не хуже порядочного экскурсовода. Обзавелся историческим справочником и не просто разыскиваю Ваню Петрова или Андрюшу Сидорова — совершаю научные экспедиции, открываю старину или отмечаю современность.
Он сам предложил военкому услуги, сказав, что готов выполнять любые задании: разносил повестки, проводил в молодежных общежитиях собрания призывников, делал в госпиталях доклады о ходе воины и международном положении, регулярно бывал на автомобильном, где все — от Григорыча в проходной до директора — в размеченные им часы брали саперные лопаты, окапывались, ползали по-пластунски, швыряли гранаты, работали штыком, и все это дружно, деловито, споро, а его, Рубена, замечание или совет принимались беспрекословно.
Не раз доводилось ему, как некогда в Мадриде, ночами дежурить на крышах московских зданий в ожидании возможных налетов авиации противника, и они были тревожны и романтичны, эти свежие ночи, пронизанные огнями ракет, озаренные пылающими облаками.
Шло время, полное новых забот, спешки, неотложных дел, интересов, треволнений, и неожиданно пришел замечательный, памятный денек.
В то утро Рубен не разыскивал адреса призывников и не вручал повесток: его самого разыскал молоденький лейтенант и передал приглашение военкома. Вид у лейтенанта был праздничный, торжественный: он словно бы пришел с поздравлением, но почему-то смутился да так ничего и не сказал. Уже выходя на улицу, Рубен заглянул в повестку и удивился: «Вы приглашены...» — «Возможно, изменили форму обращения, — подумал он. — Обычно писали: «Вам надлежит явиться...» И едва он занял очередь в длинном коридоре военкомата, как из приемной вышел молодой офицер и зачитал по списку несколько фамилий. Он назвал и фамилию Ибаррури. В небольшом кабинете военкома было тесно. Человек двадцать офицеров стояли полукругом у стола. Худощавый полковник (рукав гимнастерки аккуратно заправлен за пояс брюк) говорил раздельно, негромко:
— ...Такие минуты и я пережил. Они остаются в памяти на всю жизнь.
Три ордена Красного Знамени поблескивали на груди полковника: густо-синие глаза смотрели внимательно и зорко. И Рубену отчетливо вспомнился комбат Сергейчук — они были удивительно похожи друг на друга, эти два человека. Сходство было не только внешнее, но и во взгляде, абрисе лица, прищуре глаз — в них обоих сразу угадывались собранность и решимость, умение подчиняться и повелевать.
— А когда мы приедем в Кремль, — сказал полковник, — вспомните, сколько славных прошли под этими сводами. Вспомните: там работал Ленин...
Удивительный этот день был серебряным от солнца, от блеска тротуаров после дождя, от покрытых росой газонов, от брызг на машинах, оконных стеклах, проводах...
В автобусе рядом с Рубеном сидел пожилой офицер: рука на перевязи, из-под фуражки белел бинт. Он спросил:
— Где воевали? Березина?.. Да, бывал. Я журналист. Фамилия — Богатырев. Слышали? Очень приятно. Начал войну в первый день и первый час, в 96-й дивизии полковника Шепетова, на границе Венгрии...
— Все же вы строевик?
— Конечно. Двадцать лет в армии как один день.
— А журналистика... вторая профессия?
Рубену показалось, офицер обиделся.
— Вторая? Да разве она может быть второй? — Он передернул плечами, оглянулся на соседей. — Вот капитан, летчик, четыре вражеских самолета сбил. Он меня не знает, но я его биографию изучил. А это лейтенант, танкист, сам переправу на Горыни целые сутки удерживал. Тоже не знает меня, но я-то его знаю!
— Я думаю, редактор вас любит, — сказал Рубен.
Офицер наклонился к нему, подставил ухо:
— Что?,. Как вы изволили выразиться? Ну, если бы он услышал это слово!
— Трудно вам, наверно, работать? — невольно заметил Рубен.
Глаза офицера насмешливо блеснули.
— В нашей военной печати слова «трудно» нет. Есть другое слово: «нужно». Я с моим редактором всю финскую прошел. Вместе в болотах тонули, на льду замерзали, и как бы ни было нам тяжело, мы знали — нужно, и делали свое дело.
— А между тем вы говорите так, будто чем-то недовольны.
Офицер поправил под фуражкой повязку.
— Правду сказать, есть для этого причины. Месяц в госпитале провалялся... Месяц! И в редакцию — ни строки. Я должен был дать полосу о защитниках Киева. Какие там ребята сражались в воздушно-десантных бригадах! И надо же было мине подвернуться, и умерла, не родившись, чудесная полоса. Ну, редактор в госпиталь потом дозвонился: «Где ваша осмотрительность? Почему вы пошли в атаку? Вы забыли о главном, о газете, майор!» Что ему ответить? Пришлось извиняться: мол, вернусь, наверстаю упущенное. Вчера возвратился, вошел в редакцию, жду разноса... Редактор спокойно поздоровался, заглянул в блокнот и спросил так, словно мы час назад виделись: «Надеюсь, краткое интервью у Михаила Ивановича возьмете?» — «У какого Михаила Ивановича?» — «У Калинина». — «Он меня примет?» — «Безусловно. Он будет вам орден вручать». — «Мне... орден?» Тут редактор насупился: «Послушайте, майор, вы читаете газеты? Интервью обязательно возьмите».
Майор озабоченно вздохнул:
— Итак, очередное задание. Как говорится, с ходу. Но урвать у Михаила Ивановича добрых пять минут — это ведь не пресс-конференция!
— А если рассказать ему все начистоту о вашем моральном долге?
— Послушайте, — удивленно прошептал майор, — это же идея!
Майору было трудно подниматься по широкой мраморной лестнице, и Рубен поддерживал его. Стройный седой полковник проводил их в передний ряд. В зале было много военных: летчиков, танкистов, пехотинцев, моряков; генералы, офицеры и рядовые солдаты; были и женщины. Майор, указав глазами на одну из них, шепнул:
— Бывалая разведчица. Подорвала четыре вражеских эшелона, схвачена гестапо, расстреляна и вот... жива!
— Сколько у вас знакомых? — удивился Рубен.
Майор осмотрелся, ответил серьезно:
— Вижу пятерых... Нет, больше. Но познакомьтесь с вашим соседом: это сержант Ковалев, снайпер.
Ковалев был хрупок, белокур, кареглаз. Он, казалось, очень обрадовался встрече с Богатыревым, а тот спросил деловито:
— Сколько на счету? Девяносто два? Что ж, для начала неплохо. Вы расскажите старшему лейтенанту о своей охоте на фашистов.
Беседуя с Ковалевым, Рубен не заметил, как майор осторожно поднялся и прошел вперед. С минуту он поговорил с тем седым полковником, который ведал здесь распорядком, и когда, словно по неприметному знаку, в огромном зале установилась тишина, а затем громыхнули аплодисменты, обернувшись, Рубен увидел майора, беседующего с Михаилом Ивановичем Калининым.
Калинин улыбался и покачивал головой, а майор торопливо что-то записывал в блокнот. У Рубена вдруг легко и радостно стало на душе: майор, как видно, успешно выполнил задание своего строгого редактора.
Спокойный голос называл фамилии. Рубен услышал и свою фамилию. Десяток шагов... и еще десяток. Какой огромный и светлый зал! А сколько глаз провожают Рубена и сколько лиц дружески улыбаются ему! Михаил Иванович бережно обнял Рубена и сказал негромко:
— Вы были смелым, как и подобает воину-антифашисту. Мы, советские люди, всегда будем помнить подвиги наших братьев по классу, как самоотверженно они исполняли свой интернациональный долг.
Он запомнил улыбку Михаила Ивановича, смешливые морщинки у глаз, внимательный, зоркий взгляд через очки. Чьи-то ловкие руки прикрепили к гимнастерке Рубена орден.
— Желаем вам, Ибаррури, еще не один раз войти в этот зал... — сказал седой полковник и проводил Рубена в первый ряд.
А потом откуда-то снова появился беспокойный журналист с блокнотом.
— Ну, теперь держись, редактор! Больше того — ликуй! Каковы ваши планы на дальнейшее? — спросил он Рубена.
— Уеду на фронт!
— Ясно, — задумчиво сказал он. — Вы уловили главное. В самой атмосфере этого зала — нетерпение и скрытая напряженность. Да, у людей радость, однако суровы и торжество, и напутствие. Тут и само молчание говорит, как велика она, сила нашей ненависти и нашей воли.
ТРЕТЬЯ РЕКА
В первые дни, проведенные в Москве, Рубен был уверен, что получить назначение в одну из частей, отбывающих на фронт, дело самое простое. Эту уверенность поддерживал и военный журналист. Несколько раз они беседовали по телефону, и майор заключал бодро:
— Первая и последняя инстанция — мы сами. Правда, есть еще и промежуточная — вокзал!
К большой досаде Рубена, рана заживала медленно, и врач даже спросил:
— Может, полежим в госпитале?
— Ну что вы, доктор, я здоров как бык!
Доктор махнул рукой.
— Был у меня такой же бык — майор из газеты. Нет никакого сладу: придется редактору звонить. Дай ему справку, что, мол, здоров, а на самом бинтов, марли, ваты полпуда!
— А фамилия майора... Богатырев?
— Только фамилия и осталась.
Еще через два дня Рубен встретил майора в скверике, у больницы. Богатырев с трудом переставлял ноги, был хмур и зол.
— Значит, решили, простились и — на вокзал? — подходя к нему, шутливо спросил Рубен.
Майор растерянно усмехнулся, сделал скорбное лицо.
— Друг мой, не настраивайте меня против доктора. По натуре я добр, но во гневе страшен. Да, я зол на доктора, как зол! Знаете, что сотворил мой заботливый эскулап? Он угрожал мне, но я не верил. Тогда он осуществил угрозу и позвонил редактору.
Майор оступился, присел на скамью.
— Самому редактору... слышите? Вчера меня вызывает полковник. Вхожу, докладываюсь, чин чином. Полковник дружески жмет мне руку и говорит:
«Вас ждут два приказа, майор. Первый — это благодарность за интервью. Второй... — тут редактор помедлил. — Но вы понимаете, что значит приказ вышестоящего командира?»
«Я двадцать лет в армии, товарищ полковник».
«И что вы должны сделать, получив приказ?»
«Выполнить его безоговорочно и добросовестно. Не сомневаюсь, что это командировка на фронт, и выеду к месту назначения сегодня же».
Полковник подал мне бумажку, и я откозырял. А в приемной развернул ее, и в глазах у меня зарябило. Вот послушайте: «Майору Богатыреву А. А. немедленно отбыть в госпиталь, где и находиться до полного излечения».
Он схватился за грудь, скрипнул зубами.
— Что же вы решили? — спросил Рубен: ему и действительно стало жаль беспокойного газетчика. Но майор встряхнулся, стукнул по колену кулаком и вскрикнул:
— Ух ты... Болит. В общем дело мое солдатское: выполнить приказ.
Это знакомство и разговор в скверике позже Рубен вспоминал не раз: история повторялась, заботливый безрукий военком пытался и его уложить в госпиталь.
В один из вечеров осени 1941 года, когда на подступах к Москве шли тяжелые бои, автозаводские ребята пригласили Рубена в Колонный зал Дома союзов, где проходил первый антифашистский митинг советской молодежи.
Рубен сидел рядом с Машенькой и Васей Глаголевым. Выступали войны, ученые, медицинские сестры, вожаки рабочих бригад, и сотни людей то слушали затаив дыхание, то вскакивали с мест, крича и вскидывая кулаки. Захваченный общим порывом гнева, Рубен тоже вскакивал, кричал, стучал каблуками. Вася Глаголев сказал:
— Все-таки я думаю, что на сердце легче, если боль и ярость переключаешь на автомат, на винтовку, на пулемет.
— Ты ведь не был на фронте, — заметила Машенька.
— Не был, но знаю. Верно, товарищ Рубен?
Он не успел ответить: председатель назвал его имя. Сначала он подумал, что, наверно, ослышался, но Машенька шепнула:
— Иди и... посмелей!
Никогда еще Рубену не приходилось выступать с речью. Беседа с товарищами, когда вокруг знакомые ребята, — другое дело. Просто и с бойцами — они самые верные друзья. А здесь, в огромном зале, сотни незнакомых девушек и парней, быть может, ждут от него какого-то особенного слова?
— Я не готовился, — тихо сказал он Машеньке. — Хотя бы предупредили...
Она тряхнула головой:
— Вот и хорошо... То, что на душе, и выкладывай.
Он волновался. Какой бесконечный зал! И сколько напряженных лиц, внимательных глаз, и тишина... тишина. Умница Машенька, верно она сказала: то, что на душе... Он сказал:
— Нет времени размышлять или колебаться: миллионы жертв, павших от рук фашистских убийц, зовут нас к действию, к мщению» Друзья, я — испанец, а рядом со мной сражались русский и казах, белорус и украинец, грузин и таджик, и наша великая дружба освящена кровью... Скажу откровенно: у нас нет времени долго митинговать — берите оружие, становитесь рядом с воинами; нет гнева священней нашего, потому что нет благородней цели!
Зал ответил овацией, и, когда Рубен возвратился в свой ряд к автозаводцам, мельком он успел заметить, как Вася Глаголев швырнул на пол кепку.
Маша тихонько спросила:
— Ты это что, Васенька?
Он ответил резко:
— Понимаешь, я связан. Зачем это сделал братишка Анатолий? Зачем своим заветом связал меня?
Только в июне 1942 года доктор, смягчившись, сказал:
— Пожалуй, где-нибудь в армейском тылу вы можете быть полезным.
Но через две недели под городом Щелково командир учебного батальона 100-го полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии капитан Лустин представил бойцам их командира роты — старшего лейтенанта Рубена Ибаррури.
5 августа 1942 года дивизия выбыла на фронт в район Сталинграда, где шли ожесточенные бои.
В поселок Красноармейск, что несколько южнее Сталинграда, воинский поезд прибыл под вечер, и капитан Лустин, заметив Рубена у вагона, вместо приветствия сказал:
— Передохнем часика три. Кстати, лейтенант, в сотне метров отсюда почта.
В тот вечер Рубен отослал письма — матери, сестренке, Пантелеймону Николаевичу Лепешинскому и Янке Клавичу.
Матери он писал:
«Дорогая мама! Извини за молчание, но я не знал, куда меня назначат. Сегодня могу сообщить тебе об этом. Нахожусь в городе, который мне очень дорог. Здесь я учился на летчика...
Мне хочется скорее в бой. Можешь быть уверена, что я исполню свой комсомольский и воинский долг».
Он вышел из маленького здания почты и остановился на перроне. Августовский вечер был душен и насыщен запахом вялой травы. Под звездами смутно мерцала глянцевая сталь рельсов, товарные вагоны эшелона были темны и безмолвны.
Рубен отлично помнил и эту станцию, и степь, и овражистый, глинистый берег Волги. Школа летчиков размещалась неподалеку отсюда и, когда он взлетал с учебного аэродрома, эти пакгаузы, домики железнодорожников, вышки электропередачи стремительно бежали навстречу и рассыпались в сплошной зелени трав.
Школа летчиков... Кажется, так давно это было!
Он сошел с перрона, пересек железнодорожные линии, поднялся на холм. Слабый ветер дул с Волги, донесся свежий и сладковатый запах реки.
— Третья река, — подумал Рубен. — Да, третья моя фронтовая река: Эбро, Березина, Волга...
Вечер предвещал грозу; ветер то схватывался, то затихал, и земля дышала горьковатым и жарким настоем полыни. Где-то в отдалении перекатывался медленный гром, но, возможно, это были отзвуки канонады.
Возвращаясь к эшелону, он встретил у последнего вагона комбата Лустина.
— Знаешь, старший лейтенант, — усмехнулся он, — у тебя есть чувство времени. Сейчас выгружаемся. Предстоит бросок, и не из легких. До самой станции Котлубань.
— Разрешите подать команду? — спросил Рубен.
Комбат посветил фонариком, взглянул на часы:
— Начать выгрузку!..
Вдоль вагонов пронесся, повторился крик. Загремели двери. И, словно ожидая этого сигнала, по рельсам, по шпалам, по крышам, тяжело накатываясь, забарабанил дождь.
БРОСОК НА КОТЛУБАНЬ
Пеший бросок из Красноармейска в район станции Котлубань гвардейский батальон капитана Лустина должен был совершить в предельно сжатые сроки. Этого требовала тревожная обстановка на участке фронта Самофаловка — Котлубань. Группе вражеских танков удалось захватить разъезд 564-й. Это ставило под угрозу сообщение части наших войск со Сталинградом.
Когда 35-я гвардейская стрелковая дивизия получила задание остановить противника на участке Самофаловка — Котлубань, ее полки еще находились в пути. И командир 35-й, генерал Глазков, принял решение — выдвинуть на рубеж развертывания передовой отряд, которому было приказано с марша вступить в бой и задержать противника до подхода основных сил дивизии.
Пулеметная рота старшего лейтенанта Ибаррури вышла на выполнение задания в 23.00. Сеял мелкий дождь.
Тугой порывистый ветер гнал и кружил его над блеклыми травами Приволжья.
Шагая впереди колонны, Рубен мысленно высчитывал расстояние, которое предстояло преодолеть. Если за ночь они пройдут сорок километром, останется еще добрая половина пути, быть может, пути наиболее трудного потому, что чем ближе к фронту, тем активнее авиация противника.
Вот и теперь, едва остались попади последние домики Красноармейска, над степью покатился ноющий гул «юнкерсов». Вскоре он затих, а потом снопа стал медленно надвигаться с запада, где временами сквозь мокрую темень зыбились то зеленоватые, то багровые всплески ракет.
Рядом с Рубеном шел командир взвода лейтенант Павел Глущенко.
Дождь то ослабевал, то усиливался, мелкий и зябкий, пронизанный ветром; прикрываясь краем плащ-накидки и закурив папиросу, Глущенко неожиданно спросил:
— Как твоя левая рука?
Рубен невольно замедлил шаг.
— Тебе кто-то сказал или ты сам заметил? Глущенко промолчал. Он вовремя поддержал Рубена под локоть на ослизлой выбоине и сам чуть было не свалился в ухаб.
— Скользко, будто на паркете, — усмехнулся Павел. — Ну что ж, проселок, а не какая-нибудь авеню.
— Почему ты спросил о руке?
— Да ведь заметно. Разве твое ранение — секрет?
— Нет, от тебя не секрет,— сказал Рубен. — Однако помалкивай. Знаешь, командир полка, чего доброго, может отправить в тыл.
Глущенко встряхнул плащ-накидку, с досадой отбросил мокрую папиросу.
— В этом, извини, сомневаюсь. Все относительно, и ранение — тоже. Для тылового врача твое ранение — дело, возможно, серьезное, а на переднем крае — пустяки. Между прочим, я заметил, что ты как будто стараешься это ранение скрыть. Месяц назад, когда я впервые увидел тебя на учениях, мне показалось, что ты неловко двигаешь рукой. Потом я присмотрелся и понял: да ведь тебе больно левую руку подымать!
Далеко в тяжелых лохмотьях туч вспыхнула ракета, и в холодных отсветах ее заблестели стволы пулеметов, автоматов, темный металл касок. Смутные отблески погасли, и над колонной опять сомкнулась ночь.
Рубен посмотрел на часы: черная фосфорическая стрелка приближалась к цифре три. Он подумал о том, что солдаты уже устали, хотя пройдено было не более четверти пути. Марш в такую распутицу — дело не шуточное, и нельзя было думать об отдыхе: с ходу в бой.
За короткое время учений под Щелковом он успел узнать каждого из бойцов роты, а с веселым Глущенко подружился. Лейтенант охотно и много рассказывал о своем Донбассе, и, слушая пересыпанную украинскими словами его речь, Рубен вспоминал свою заветную сторонку — Бискайю.
Сейчас он думал о том, что за последние дни в облике бойцов произошла неуловимая перемена: как будто ближе, внимательнее стали они друг к другу и одновременно сдержаннее. Каждый из них понимал, какая ответственность выпала им на долю: отступление кончилось. Позади — несчетные кровавые рубежи. Они как ступени, вырубленные в скале, к трудному, решающему перевалу. А перевал — эта степь, равнинное междуречье Дона и Волги. Здесь началась великая битва, неизбежность которой была понятна: от самого Дуная, от Прута, от Немана, от Карельских озер к ней вели и горькие и славные рубежи-ступени. Битва началась еще 20 июля на подступах к Дону, когда бои развернулись по всему фронту 62-й армии.
С этого дня Рубен не расставался с картой междуречья. Таких огромных цифр не знала ни одна война. Вот малый клочок земли у самого Дона — карта со всеми подробностями берега, урочищ, высот отчетливо развертывалась перед глазами, — и на этом неприметно малом клочке земли против гвардейцев полковника Утвенко неприятель бросил сто пятьдесят танков. Сто пятьдесят! Через полчаса эта танковая колонна сократилась до ста машин. Пятьдесят два танка горели дымными кострами, и свыше пятисот автоматчиков противника полегло в степи.
Было над чем призадуматься немецким штабистам. В запыленных, выжженных донских просторах чудом народилась неслыханная сила: она поднялась на тех береговых обрывах» где еще два дня назад отдельные наши бойцы, уходя от противника, причаливали на бревнах, на плотиках, на снопах камыша.
Подтянув войска и создав многократное преимущество в силе, генерал Паулюс ударил по флангам нашей обороны на правом берегу Дона. Успех этого штурма открыл бы неприятелю путь к Волге.
Атака, предпринятая противником утром 26 июля, была отбита. За нею последовали вторая, третья... Сражение продолжалось четверо суток. Фашистские танки и пехота бросались на позиции гвардейцев семнадцать раз! Они не продвинулись ни на шаг - славный город на Волге начинал обороняться на своих дальних подступах.
Когда 35-я гвардейская стрелковая дивизия отбыла на указанный ей рубеж, в приволжской степи произошло много значительных событий.
Немецкие генералы запрашивали у фюрера новые подкрепления. Он не отказывал и требовал взять Сталинград к 25 августа. В излучине Дона сосредоточивались все новые фашистские войска — дивизии и полки, переброшенные с других участков огромного фронта и из Европы. 18 августа после яростных бомбежек, артналетов и атак в районе Нижний Акатов фашисты форсировали Дон.
20 августа гитлеровцы нанесли удар по нашей обороне в районе Нижне-Чирской и хутора Вертячий; они стали продвигаться по левому берегу Дона, приближаясь к волжской твердыне.
Такова была обстановка, о которой капитан Лустин коротко рассказал офицерам батальона перед ночным маршем. Каждый из них, конечно, понимал,- что при таком сосредоточении войск с обеих сторон учебный батальон представлял собой незначительную силу. Однако даже один выигранный у противника час, пока дивизия выйдет в намеченную полосу обороны, имел немалое значение.
Рассвет был медленным и хмурым. Шквалистый северный ветер гнал низко над степью рваные клочья туч; травы и лужи, взгорбки, овраги, кусты терновника, пажити, копны - все было свинцовым.
По свинцовым дорогам медленно влекли орудия тягачи; в тяжелой свинцовой туче угрюмо гудел самолет; на обочине проселка, в сером месиве суглинка, замерла, будто выбившись из сил, легковая машина... Сначала Рубен не обратил на нее внимания; мало ли здесь, в прифронтовой степи, двигалось в разных направлениях машин? Но кто-то из солдат сказал:
— Из этакой грязищи и за сутки не вырвешься.
Рубен обернулся.
— Спросите, не нужна ли помощь.
Рослый, богатырски сложенный сержант Субботин подбежал к двум офицерам, стоявшим у машины, козырнул. Рубен расслышал голос, который показался ему очень знакомым:
— Оказать помощь? Конечно. Благодарю...
— Ну-ка, орлы из первого взвода, — весело скомандовал сержант, — ко мне!
Солдаты бросились к машине, и кто-то из них удивленно запричитал;
— Ой и злосчастная, пробоин-то, пробоин!
У раскрытого мотора выпрямился молодой шофер.
— Почему же злосчастная, добрый молодец? Сто двадцать две пробоины, а «эмочка» на загляденье! Главное, что служит надежно и долго еще будет служить...
Сержант Субботин спросил с интересом:
— Где же ее так изрешетило? И верно, живого места нет.
— Машина, ребята, истинно гвардейского звания,— гордо сказал шофер, — Она, может, в десятках сражений побывала. Под Киевом, под Конотопом, на Сейме, под Харьковом, под Тимом и Щиграми, а теперь на Дон прибыла воевать.
— Да мы ее, красавицу, на руках вынесем! — воскликнул Субботин. — Взялись, ребята... р-раз!
Трое офицеров стояли, рассматривая карту, несколько в стороне. Ветер трепал на них плащ-накидки и рвал из рук развернутый лист. Коренастый крепыш, по-видимому старший из них, то указывал на дальнюю высотку, то снова склонялся над картой. «Где-то я видел этого офицера, — подумал Рубен. — Впрочем, разве вспомнишь?»
Колеса машины глубоко засели в густой тягучей глине, и сдвинуть ее с места солдатам не удалось. Рубен подошел к машине, взялся за передний буфер:
— Слушать команду... взяли!
Надрывно взревел мотор, и старенькая фронтовая скиталица выбралась из грязи. Бойкий водитель был доволен:
— Спасибо, товарищ гвардии старший лейтенант! Верно пословица говорит: доброе братство лучше богатства. Ну и земля в этом краю! Прямо-таки зубами за ноги цапает!
Кто-то из солдат настороженно шепнул:
— Генерал...
Рубен обернулся. К машине, сбросив на руку плащ- накидку, шел в сопровождении двух офицеров коренастый загорелый генерал. Колонна сразу же подтянулась, солдаты пошли размашистее, а те, что задержались у машины, встали по стойке «смирно». Рубен козырнул и отдал рапорт. Генерал улыбнулся и подал Рубену руку.
— Не узнаете, старший лейтенант? А ведь нам доводилось встречаться. В Мадриде…
Рубен окончательно растерялся.
—Товарищ Павлито! — почти закричал он. — Ну, как же не узнать вас, товарищ Родимцев!
Они обнялись.
— А помните Мансанарес? — поспешно заговорил Рубен. — О, как драпали тогда итальянцы!
Не выпуская руки Рубена, оглядывая его с головы до ног, генерал сказал:
— Погоди. Тут будет похлестче Мансанареса и даже похлестче Гвадалахары! Припомни мое слово: похлестче Гвадалахары!
Он сдвинул с плеча Рубена плащ-накидку, взглянул на погон.
— Значит, как вижу, в Москве хорошо подучился и теперь командир пулеметной роты? Отлично. А коль скоро ты вспомнил бой у моста через Мансанарес, так не забывай, что там наши пулеметчики решили исход операции. Пулеметная рота, Рубен, большая сила, и ее командиру нужно обладать высокой выдержкой и ясным умом, чтобы применить эту силу верно и сполна.
Тяжело печатая шаг, рота уже удалялась в сырую, мглистую степь. Генерал еще раз встряхнул Рубена за плечи.
— И еще помни: осмотрительность — мужеству не помеха. Будь смел и осмотрителен, командир.
В какую-то последнюю секунду перед глазами Рубена на груди генерала блеснула Золотая Звезда.
Фронт проходил совсем близко от проселка, которым Рубен вел свою роту. Все чаще встречались раненые: их везли на повозках и в грузовых машинах, и, уступая дорогу, Рубен невольно примечал, что не было слышно ни жалоб, ни стона. Раненые молчали, словно бы понимая, что в событиях, заполнивших приволжскую степь, таких огромных и суровых, казалась совсем незаметной и почти ничего не значила маленькая, отдельная судьба.
Фронт громыхал гулкими разрывами снарядов, частой, как град по железной крыше, ружейной перестрелкой. На извороте проселка из глубокого кювета полоснул зенитной очередью пулемет. Почти одновременно где-то близко застучали выстрелы, прошипели две-три пули, и по жестким травам снова зашумел дождь.
Подошел Глущенко и, кутаясь в плащ-накидку, спросил:
— А генерал-то что... знакомый?
— В Испании встречались.
— Я, знаешь, заметил: он внимательно на наших солдат смотрел.
— Понравились, — сказал Рубен. — Ты передай ребятам. Он-то, конечно, знает, что такое бросок. Люди целый день на марше, а прошли перед ним лихо. Он говорит, что пулеметная рота — огромная силища.
Глущенко сразу повеселел и побежал вдоль колонны. До Рубена донесся его веселый голос: «А знаете, орлы...»
Дорога спустилась в разлогую балку, и Рубен подал команду сделать привал. Довольные возможностью передохнуть» солдаты снимали вещевые мешки и оружие и рассаживались на мокром глинистом склоне. Сразу потянуло душистым дымком махорки. Кто-то, вздыхая, ругнул дождь, а веселый и разговорчивый Аркадий Петраков (Рубен узнал его по голосу) кому-то убежденно доказывал:
— Дождь — это для здоровья, братец, первое дело. Грязь, она тоже пользительная. Жаль, ты книг не читал, темнота. Может, слышал про солдата Швейка? Он по ночам из казармы убегал, да в болоте валялся, чтобы заболеть и от муштры избавиться. И что же? Представь себе, не заболел, только закалился!
Солдаты смеялись, кто-то отозвался прибауткой, бронебойщик Ахмет Абдувалиев выговорил со злостью:
— Дождь — это плохо. И когда жарко — нехорошо.
— Ну до чего же тонко подмечено! — откликнулся Валя Осинин, ефрейтор. — Правильно, друг Ахмет. Дождь — это плохо. Дома на печке и суше и теплее.
— А я, братцы, предлагаю, — произнес звонкий женский голос, — называть нашу роту гвардейской непромокаемой. Красиво звучит: гвардейская, пулеметная, непромокаемая...
Это говорила Маша Славиогло, санинструктор роты, молоденькая смуглая молдаванка. Солдаты называли ее «нашей-Машей». В роте Маша была самой молодой, но ей уже довелось участвовать в боях в Подмосковье.
Какие-то минуты привала и пустынная балка сразу же стала обжитой. Куда бы ни пришли солдаты, они всегда приносят с собой эту особую домовитость: и крона дерева над головой становится крышей хаты, и трава — постелью, и земля излучает тепло.
Но привалу на марше — считанные минуты. Команда - и рота опять в пути. К полудню небо стало проясняться: ветер переменился и подул с юга, сбивая в ровные валы серое рыхлое месиво туч. Вскоре проглянуло солнце, и желтая, обожженная, вся в росплесках луж равнинная степь заискрилась и засверкала, а солдаты, словно ободренные солнцем, пошли быстрее. Разъезд 564-й... Как все-таки долог путь! Кто-то в колонне досадливо спрашивал:
— Да есть ли он на свете, этот разъезд?.. Может, и нету?
Глущенко сказал ему:
— Терпи, казак!
Из разлогой балочки с чахлым кустарником по кромке навстречу роте выбежал вихрастый мальчонка. Штанишки закатаны до колен, босые ноги в густой грязи. Наверное, встреча была для мальчонки неожиданной: он замер, съежился, готовясь броситься в степь, но что-то понял, всплеснул руками и засмеялся: .
— Наши... Ух, как же я перепугался!
Рубен подошел, погладил его нечесаную голову,
— Разве мы, приятель, такие страшные?
Голубые глаза мальчонки смотрели испуганно.
— Да куда же вы идете, солдаты? У нас на разъезде немцы.
— Много?
Паренек шмыгнул носом, вздохнул.
— Много. Может, с полсотни. И шесть грузовых машин. И пулеметы.
— А на окраине поселка — часовые?
— Нету часовых. Может, уже поставили? А хорошо бы вам от насыпи по балочке зайти.
— Молодец, малыш, — приласкал паренька и Глущенко. — Видно, будешь разведчиком.
Мальчик радостно улыбнулся:
— Да!..
— Что ж, разведчик, показывай нам дорогу.
И вот уже первые домики приволжских степняков, сараи, огороды, молодые деревца садов, алые мальвы в палисаднике, глубокая бомбовая воронка посреди улицы, наполненная водой.
Тишина... Особая, чуткая тишина фронта, которую не нарушали, а подчеркивали отдаленные раскаты канонады.
Где-то близко отсюда, на севере и на юге, шли ожесточенные бои, и эхо дальних взрывов повторялось в обезлюдевших жилищах.
...Пятеро фашистских солдат беззаботно завтракали под камышовым навесом в первом дворе, когда перед ними встали солдат-сибиряк Переверзев и старшина Миронов.
— Руки! — приказал Миронов. — Да не ломайся, ведь понимаешь — руки вверх!
Скуластый ефрейтор, рыжеусый, с Железным крестом на кителе, послушно поднял руки. Миронов наклонился, чтобы поднять винтовку, которая лежала рядом с ефрейтором на брезенте, но тот метнулся в сторону, изогнулся, подпрыгнул, встал на четвереньки, ловко выхватил из кармана пистолет.
Выстрелить он не успел. Рубен сразил его очередью из автомата. Эта короткая автоматная очередь и послужила сигналом к атаке.
Глущенко повел группу бойцов огородами, в обход хуторка, чтобы отрезать противнику дорогу на Котлубань. А здесь, у первого домика, откуда просматривалась вся улица, Рубен приказал установить два пулемета.
Не теряя ни минуты, он пробрался с десятком солдат чахлым садиком к соседней хате, где на просторном дворе, у ворот, трое гитлеровцев устанавливали станковый пулемет, а двое пробирались по крыше, неся ручной пулемет и коробки с патронами.
Этих «верхолазов» Андрей Тырва снял очередью из автомата, а пулеметчикам, угрожая гранатой, приказал сдаться. Они, казалось, не слышали и деловито, как на учениях, стали поворачивать пулемет... Рубен метнул гранату, и она громыхнула прямо у их ног.
Когда вдоль единственной улицы хутора по машинам ударили наши пулеметы и почти одновременно Глущенко со своей группой ворвался на западную окраину хуторка, два десятка немцев, сбившихся на школьном дворе, сложили на землю оружие и послушно подняли руки.
Выделив двух автоматчиков, Рубен приказал конвоировать пленных в тыл и сообщил комбату (молодцы связисты, они успели подтянуть провод!), что хутор и разъезд взяты, захвачены пленные и трофеи.
— Отлично! — отозвался знакомый голос Лустина. — Теперь задача выбить их со станции Котлубань. Наступайте вдоль железнодорожного полотна, а мы ударим по южной стороне станции.
— Есть! — сказал Рубен и хотел положить трубку, но комбат спросил:
— Сколько пленных?
— Свыше двух десятков.
— Есть среди них офицеры?
— Еще не проверил... Видел одного ефрейтора. Молчит, а допрашивать некогда.
— На Котлубани, — сказал комбат, — пятнадцать вражеских танков и до батальона пехоты. Приготовьтесь драться с танками противника. Впрочем, мы постараемся отвлечь их на себя.
С улицы во двор школы вбежала Маша Славиогло:
— Товарищ комроты... Какая удача! В машинах, кроме боеприпасов, — медикаменты! Я теперь самый богатый санинструктор на весь фронт...
Рубен кивнул Глущенко;
— Сообщите в тыл о медикаментах.
Подошел командир взвода младший лейтенант Чупак: грязная гимнастерка изорвана, кисть левой руки перевязана свежим бинтом. Козырнув, Чупак слегка замялся, словно не находя слов, широко улыбнулся и сказал негромко:
Разрешите доложить... Взят в плен немецкий военврач. Хорошо говорит по-русски.
— Где он? — спросил Рубен.
— Связан, сидит в сарае. Сообщил мне, что на станцию Котлубань движется немецкая танковая колонна, в которой не менее ста машин.
— Вот с этого и следовало начинать, — заметил Рубен и обернулся к Глущенко.— Роте перехватить железную дорогу и приготовиться к атаке на Котлубань. Я задержусь на минутку с пленным и мигом догоню вас.
Пленный сидел в деревянном сарайчике на охапке соломы и безучастно смотрел в открытую дверь. Заслышав шаги, он оживился — на Рубена взглянули быстрые, цвета воды глаза: в них нескрываемо метнулись страх и злоба.
— Отвечайте коротко, - предупредил Рубен, доставая записную книжку и карандаш и присаживаясь у двери на колоду. — Какой дивизии, когда прибыли, откуда?
Пленный поежился, облизнул сухие губы:
— Я понимаю, вы спешите. Здесь разговор короткий — это фронт. Триста восемьдесят четвертая пехотная дивизия. Прибыла неделю назад из Европы. Участвовала в боях на Дону.
Веревка, которой был связан офицер, резала ему руки, и, заметив это, Рубен кивнул Чупаку: развязать.
— Какие силы сосредоточены на станции Котлубань? — спросил Рубен.
— Шестнадцать танков, батальон пехоты, саперная рота, но... Он запнулся и, чуточку помедлив, спросил удивленно:
— Но... разве вы собираетесь наступать?
— Вы должны отвечать на вопросы, — напомнил Рубен. — Какие силы движутся в район Котлубани?
Пленный вдруг заговорил торопливо, сбивчиво:
— Извините, старший лейтенант. Я не в курсе планов нашего командования. Знаю, что завтра мы выйдем к Волге, и это будет день победы, в крайнем случае — половина победы... Жизнь только начнется, не убивайте меня.
Чупак даже присвистнул от злости:
— А сам-то вон как ножиком хотел меня полоснуть!
Рубен повторил вопрос: почему-то ответы пленного
не вызывали у него доверия.
— На подходе к станции Котлубань танковая дивизия, — четко, многозначительно проговорил пленный, мельком, испытующе взглянув в лицо Рубена. — Возможно, уже прибыла. Мне это известно из разговоров с офицерами, но это и все, что мне известно. Я врач, и оперативные планы командования мне знать не положено. Послушайте, господин офицер, я не убил ни одного русского солдата...
— Врач? — снова не выдержал Чупак. Он подбросил и ловко поймал длинный отточенный нож. — Что ж это, доктор, у тебя хирургический инструмент или шприц с глюкозой?
Рубен торопился: он уже решил отправить пленного в тыл попутной санитарной машиной, но внимание зоркого Чупака привлекло кольцо с розоватой агатовой камеей.
— Смотрите, товарищ командир, — сказал он, указывая на камень. — Вроде бы печатка?
На камне был изображен матадор в широкополой
шляпе со шпагой в вытянутой руке. Таких резных камней Рубен видел на родине много, их охотно раскупали на память об Испании иноземные туристы, А сейчас он подумал, что камея, как видно, оказалась у доктора не случайно.
Пленный по-своему понял Чупака и стал торопливо снимать кольцо.
— Не нужно, — сказал Рубен. — Откуда у вас эта камея?
— Из Теруэля.
Рубен не ослышался: да, пленный сказал: «из Теруэля!»
— Давно вы там были?
— Две недели назад.
Переходя на испанский, Рубен спросил:
— Конечно, вы были и в Мадриде, господин исцелитель, гостем кровавого пса Франко?..
«Доктор» замер, губы его искривились и застыди
— Кто вы? — прошептал он испуганно, почему-то стараясь подальше забиться в угол сарайчика. — О боже, что за страна?! Солдаты здесь появляются из-под. земли, женщины подрывают танки; в степи у Волги слышу испанскую речь!
— Я один из тех, кто сражался против вас в Теруэле, в Мадриде, на Эбро, — сказал Рубен. — Там, в Испании, не все закончено. Испания продолжается здесь.
Рубен взглянул на часы и кивнул Чупаку:
— Передайте его нашим раненым. Доставить в штаб дивизии.
Уже в час боя за станцию Котлубань, когда рота ворвалась на окраину маленького поселка железнодорожников, младший лейтенант, встретившись с Рубеном, не скрывая удивления, доложил:
— А «доктор», вы знаете, что с ним случилось? Ну, право, умора! Когда я его доставил к раненым, он перед нашей-Машей извинился и спрашивает этак украдкой: мол, что это за чудо, ваш командир? «Для кого — чудо, — говорит Маша, — а для кого — брат родной! Впрочем, вы, может, слышали его фамилию — товарищ Ибаррури. Слышали о Пасионарии? Это ее сын».
Чупак усмехнулся, блеснув белыми зубами.
— Тут доктор вроде бы горячего хватил: побледнел, рот разинул, а слова выговорить не может. Кто-то из раненых крикнул: «Вызывайте саперов, челюсть фашисту надо вправлять!» Но «доктору» не до шуток: мотает головой, мычит, ведро воды в морду ему выплеснули, пока очухался!..
Рубен замечал, что бойцы то с удивлением, то с опаской поглядывали на него, — пулеметно-ружейный огонь на окраине все усиливался, уже два раза угловой каменный дом переходил из рук в руки, а командир был спокоен, будто знал заранее, что рота уже обеспечила себе успех.
Пожалуй, Рубен и сам не смог бы объяснить им своего состояния: еще раз на полях бескрайней суровой России он, воочию убедился в том, что сражался и за Испанию — пленный «доктор» был подтверждением этому.
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА СОМОРРОСТРО
Группе бойцов, возглавленной рядовым Андреем Тырвой, удалось пересечь переулок, выйти на железнодорожную насыпь с запада, отбросить гитлеровцев от будки стрелочника и залечь под стенкой перрона.
Чтобы поддержать группу, Рубен направил Глущенко с двумя пулеметными расчетами правее вокзала, где было замечено скопление солдат противника. Лейтенант быстро и удачно выбрал позицию, установив один пулемет на взгорбке погреба, другой у ворот. Теперь он мог контролировать единственную дорогу к вокзалу. Но комбату не удалось отвлечь танки противника на себя. Стремясь во что бы то ни стало удержать вокзал, гитлеровцы собрали здесь все наличные силы, в том числе и танки. С минуты на минуту они готовились перейти в контратаку.
Действия бойцов группы Тырвы были для немцев неожиданными: они не заметили, что Тырва занял позицию у перрона. Для этой малой горстки бойцов было огромной радостью вдруг увидеть позади себя цепочку солдат учебного батальона. Быстро переползая через рельсы, они присоединились к отряду Тырвы, снимали гранаты, сменяли диски автоматов.
Тырва не медлил: взмахом руки поднял бойцов, вскочил на перрон и швырнул в окно вокзала гранату.
В здании вокзала размещался штаб батальона противника. Закипела рукопашная схватка. Тырва заметил, как Артур Кадыров метнулся через стол к рослому, богатырски сложенному офицеру, сцепился с ним, и оба рухнули на пол...
Не только товарищи, Андрей Тырва и сам считал себя бывалым солдатом, но драться в такой рукопашной ему еще не приходилось. В дыму, в пыли обрушенной штукатурки то вспыхивал желтый, тусклый огонь выстрелов, то искрами сыпалось разбитое стекло. Мысленно Андрей уже простился с неразлучным другом Артуром: поспеши он на выручку Кадырову — ловкий немецкий капитан тут же прошил бы его автоматной очередью. Резко изогнувшись, Тырва ударил фашиста под локоть, вскинул автомат, нажал спусковой крючок. Будто в какой-то странной пляске, за упавшим капитаном появился второй немец - такого же роста и тоже капитан, а потом замелькали разные чины, и офицеры и рядовые.
Тырва не мог бы сказать, сколько фашистов он убил, — они появлялись, падали, метались на полу, кто-то пытался схватить его за ноги, кто-то сзади шибанул прикладом по плечу. Мельком, словно речь шла о ком-то другом, Андрей подумал: «А ведь целился, гад, в голову!» Потом ему запомнился гитлеровский офицер: привстав на колено, весь в штукатурке, он, будто прося о чем-то, протягивал Андрею руку, а в руке был зажат маленький пистолет.
Выстрела Андрей не слышал, пуля обожгла ему щеку, и какие-то секунды он испытывал тоскливое чувство: диск автомата был пуст.
Но офицер вторично не выстрелил, кто-то с маху
стукнул его ногой по кисти руки, а потом коротко грянула очередь, и гитлеровец затих в своем уголке.
Тырва обернулся, рядом с ним стоял Рубен. Его автомат дымился. В голосе комроты Андрей расслышал нотку упрека:
— Нужно, брат, смотреть в оба! Только опоздать мне на самую малость, и нет моего Андрюши, лихого бойца...
Штаб батальона противника был полностью разгромлен, здание вокзала очищено от фашистов. Бойцы уже собирали какие-то разбросанные бумаги, карты, оружие, планшеты, волокли к проему окна неизвестно где добытые мешки с цементом и громоздили их на подоконник, чтобы улучшить прикрытие со стороны поселка, а Тырва был поглощен одной задачей, которая казалась ему непостижимой: как смог командир, находясь на фланге противника, пройти через его боевой порядок и достигнуть вокзала невредимым?
Рубену и действительно было непросто это сделать, но, как говорят военные, фактор неожиданности зачастую обеспечивает успех.
Когда пулеметные расчеты Глущенко открыли огонь по пехоте противника, подходившей с западной окраины поселка, все внимание вражеских солдат сосредоточилось на этом участке боя. Тем временем группа Рубена, семь человек, приблизилась к дощатому забору у вокзала. Знак — и одновременно грянула добрая дюжина гранат, покачнулся и рухнул опрокинутый забор, и на минуту, быть может меньше, путь через привокзальную площадку был открыт. Им и нужна была только минута.
Захват вокзала был лишь эпизодом боя: имея мощную группу танков, противник надеялся быстро восстановить положение. Едва он убедился, что вокзал потерян, как танки развернулись и, несколько откатившись, открыли по зданию огонь... Снаряды загромыхали о толстую кирпичную стену, стали дырявить крышу, вдребезги разнесли рамы окон. С перрона в обрушенный проем окна кто-то крикнул:
— Пожар... Горит чердак!
На крик неожиданно отозвался звонкий, даже насмешливый голос Маши Славиогло:
— Э, да сейчас не до пожара!
Снаряд разорвался в билетном зале, и было слышно, как частые осколки кромсают стены, деревянные части, впиваются в пол. Стараясь перекричать этот гул и грохот, Рубен подал команду:
— По танкам... гранаты!..
От стены к двери, потом к окну перебежал Артур Кадыров, встал у проема во весь рост и, размахнувшись, метнул гранату.
С улицы донесся яростный крик, потом стон, защелкали одиночные выстрелы, и, покрывая все звуки боя, прямо перед Артуром разорвался снаряд.
Рубену запомнились эти медленные секунды: серое, задымленное небо за проемом окна, и силуэт солдата над грудой щебня, и еще не опущенная после броска гранаты его рука, и хищная вспышка огня над щебнем, которая словно бы выше подняла Артура, а потом тяжкие клубы дыма и пыли обволокли и поглотили его.
Когда Рубен подбежал к раненому, Маша уже была здесь. Припав на колено и поддерживая голову Кадырова. она заглядывала ему в лицо, ощупывала грудь, руки. Рубен тоже опустился на колено и позвал:
— Ты слышишь, Артур... Да что же ты, дружок?
Он прикоснулся к запыленному лбу Кадырова и
отдернул руку: Артур был мертв.
Прихрамывая и торопясь, к Рубену подошел незнакомый солдат, устало козырнул:
— Посыльный командира учебного батальона. Товарищ комбат передает, что нужно продержаться еще час. Дивизия на подходе.
— Каковы дела у батальона? — спросил Рубен.
— Ведем бой с танками противника. Они подошли со стороны Трехостровской. Девять машин уничтожены, однако противник наседает.
— Передайте комбату, — сказал Рубен, — что наши гвардейцы удержат станцию. Мы не сдадим ее, даже если все поляжем здесь.
Посыльный снова козырнул:
— Товарищ комбат передал, что он восхищен действиями вашей гвардейской роты.
Рубен пожал ему руку:
— Исполняйте!
«Продержаться один час — дивизия на подходе!» — эти слова понеслись от солдата к солдату, и даже далеко, на правом фланге, уже расходуя последние патроны, лейтенант Глущенко расслышал и повторил их. С ним оставались два бойца, а сам лейтенант был серьезно ранен.
Из кирпичной вокзальной пристройки с узким окном Рубен еще раз осмотрел поле боя. Три танка, откатившись за соседнюю усадьбу, вели пушечный огонь по горящему зданию вокзала, а другие, медленно продвигаясь, охватывали его с флангов с расчетом прорваться на перрон.
Оставаться в горящем здании больше не было смысла. Против роты Рубена действовали тринадцать танков противника и рота пехоты. Если бы танки вышли на железнодорожные пути, в окруженном горящем здании над ротой нависла бы угроза полного уничтожения. «Значит, — сказал он себе, — нужно остановить танки, принять бой...»
Он выбежал из пристройки на перрон и почти столкнулся с лейтенантом Чупаком, черным от сажи и копоти. Обычно невозмутимый, медлительный, Чупак сейчас был собран, быстр в движениях.
— Товарищ командир, — заговорил он торопливо. — Видели? Три ящика! Ну, теперь-то мы постоим!
Рубен не понял.
— Что за ящики?
— Три ящика противотанковых гранат! Мои ребята с хутора их доставили.
— Молодцом! — похвалил его Рубен. — Раздайте гранаты...
Чупак улыбнулся, козырнул.
— Сделано!
— Как же так? А меня обижаешь?
Лейтенант казался смущенным.
— Могу поделиться, товарищ лейтенант. Возьмите одну штуку.
— Нет, — сказал Рубен. — Если ты добр — давай обе. Сейчас на линию прорвутся танки. Значит, нужно остановить их... ты понимаешь? Нужен пример...
Серые глаза Чупака смотрели строго.
— Я готов, товарищ старший лейтенант...
Рубен взял у него гранаты.
— Если что... Понимаешь? Тогда ты возглавишь роту. Ясно?
Лейтенант порывался остановить комроты, но тот уже вбежал в здание вокзала, и голое его перекрыл стрельбу:
— Гранатометчики... за мной!..
Он бросился в оконный проем, через кучу щебня, засыпанную битым стеклом, откуда недавно метнул свою последнюю гранату Артур Кадыров. Спрыгнул на тротуар, залег, и тотчас длинная пулеметная очередь закружила, завихрила над ним красную кирпичную пыль.
Свежая бомбовая воронка чернела в трех шагах. В ходе наступления немцы не раз бомбили станцию. Весь поселок, железнодорожные пути, приусадебные участки были изрыты воронками, зиявшими в самых неожиданных местах. Рубен подумал, что эта воронка оказалась кстати. Сжавшись в комок, он одним броском переметнулся через осыпь земли на рыхлое, влажное дно ямы и приготовил гранаты.
В ту же минуту рядом с ним очутился Шалва Чергейшвили, сильный, ловкий боец. Что-то неуловимо переменилось в молчаливом и задумчивом облике Шалвы. Черные глаза смотрели упрямо и не мигая, брови сомкнулись вплотную.
— Они думают... — пересохшими губами Шалва глотнул воздух, зло усмехнулся. — Они думают нас напугать! Понимаете, они хотели бы, эти свиньи, взять пленных! Танки? Что танки!
Шалва тихонько, с наслаждением ругнулся, и взгляд его прищуренных, досиня черных, как угольный излом, глаз вдруг встревоженно остановился на руке Рубена:
Товарищ командир... вы ранены?
У Рубена на левом рукаве гимнастерки, пониже плеча, сквозь плотную разорванную ткань проступала кровь.
— Странно, Шалва, я не заметил... Но если не больно, значит пустяки.
Шалва отложил гранаты и достал из кармана индивидуальный пакет.
— Нет, это не пустяки, товарищ командир. Я знаю, сначала не больно, а потом...
Снаряд со звоном и свистом пронесся над их головами, ударил в стену вокзала, и она брызнула обломками кирпича. По булыжнику тротуара запрыгали, зазвенели осколки, и красная пыль, как занавес, опустилась над проемами окон.
Шалва выхватил нож и ловко разрезал рукав гимнастерки. Кровь текла из раны в бицепсе плавной широкой полосой. Рубен слегка поднял руку и облегченно вздохнул: рука свободно повиновалась, значит, кость не была задета.
Накладывая повязку, Шалва спросил:
— Позвать бы Машу?..
— Что ты! — удивился Рубен. — Сюда, под огонь?
— Да. Понимаю. Нельзя.
— Сейчас, дорогой Шалва, решающие минуты. Мы должны устоять. Значит, нужно уничтожить танки противника, снять их контроль за действиями роты. Дивизия на подходе. Сколько нам остается держаться, двадцать, тридцать минут?
Где-то далеко за поселком в небо взвилась яркая синяя ракета: вероятно, это был сигнал противника к общей атаке на Котлубань.
Три танка одновременно двинулись к вокзалу, громыхая из пушек, строча из пулеметов. Поднялась и фашистская пехота.
У Рубена кружилась голова. Взбитая снарядами пыль уменьшила видимость. Танки приближались. Где-то вверху, над головой Рубена, из окна вокзала высунулось противотанковое ружье. Потом он услышал голос Шалвы:
— Здорово!.. Подбил!..
Превозмогая слабость, Рубен приподнялся из воронки. Рядом — неужели так близко? — лязгая грязными гусеницами, брызгая огнем, ползла, сотрясая землю, черная стальная махина. «Так близко!» — еще раз подумал Рубен и бросился к танку. Главное, не промахнуться. Но… почему так резко закололо в груди?
Все же он очень устал сегодня. Внимание, не промахнуться!
— Получайте, паршивцы, на Волге... За Эбро! — эти слова он выкрикнул по-испански, и Шалва не понял. Он видел, как его комроты, припав на колено, швырнул одну за другой гранаты прямо и точно под гусеницы танка и огромная, грязная, вся задымленная машина тяжко метнулась в сторону, взвыла мотором я остановилась.
Шалва бросился к Рубену, подхватил его, донес до воронки, опустил на землю. Впервые за этот трудный день он испытал щемящее чувство страха: неужели командир убит?
Но Рубен был жив. Он открыл глаза. Грохота боя он ее слышал, а лицо Шалвы, склонившегося над ним, было окутано клубами багровой кирпичной пыли. Быть может, эта пыль запомнилась ему две-три минуты назад. когда снаряды кромсали вокзал, — сейчас она рассеялась и осела, придав разрытой земле кровавый оттенок, а Рубену еще виделись вокруг тяжелые клубы пыли.
— Дивизия... — чуть слышно спросил он. — Она подходит?..
— Да, наши близко! — радостно закричал Шалва, не замечая, что слезы текут по его щекам. — Товарищ командир, вы подорвали танк! Это была чистая работа!..
— Хорошо, — медленно выговорил Рубен. — Я знал, что мы устоим. Мы устояли!
Он больше не видел Шалву, его протянутых рук, запыленного лица в слезах, которых солдат сейчас не стыдился.
Рубен шел солнечной долиной Соморростро, день был серебряный и звонкий, и рядом уверенно шагал его старший друг — Аррарас, напевая знакомую песню Бискайи:
Тучи над страною басков.
Но тебе, родной мой край,
Я своей правдивой песней
Говорю: не унывай!
Удивительно, как это быстро случилось, что вдруг оборвалось детство, и Рубен тотчас увидел себя на дымящейся окраине Мадрида... В руках у него винтовка, на поясе гранаты и кинжал, а впереди дорога на Эбро, где идут тяжелые бои...
Жизнь повторялась краткими, резкими кадрами пережитого: тревоги, надежды, радости и боль неуловимо соединились воедино, и из этого сложного сплава чувств родилось, окрепло, радостно расправило крылья одно могучее чувство — сыновье.
Он снова переживал незабываемые минуты встречи. Уже остался в прошлом французский концлагерь Аржелес, где на самом берегу моря за рядами колючей проволоки томились обезоруженные, голодные, израненные бойцы расстрелянной, но бессмертной республики. В прошлом остался и рискованный побег и дальняя опасная дорога под чужой фамилией через Париж. Все — в прошлом, как воспоминание, как сон, и только песня подтверждает реальность пережитого, тревожит и зовет:
Наши братья — коммунисты,
Что всегда в бою средь первых,
Для Испании защиты
Пятый полк сформировали.
Мать моя, о мать родная,
Подойди сюда поближе!
Это славный полк наш Пятый
С песней в бой идет, взгляни же…
Мать...
Не вчера ли это было — на перроне уфимского вокзала он видел ее из вагона, с лицом, тронутым бронзой загара, с поседевшей прядью волос, оброненной на высокий открытый лоб, она провожала его, ясная и торжественная, и Рубен понимал, что она гордилась им.
А ею гордилась вся трудовая Испания. Поэты слагали о ней песни. Воины республики назвали ее именем батальон. Это имя сверкало на их знаменах. Она стала живым символом борющейся родины — неукротимой и неустрашимой.
Но из тысяч и тысяч людей, которые видели ее и слышали на митингах, встречали в госпиталях, в походах и боях, только Рубен и его сестренка Амая знали, какой доброй и нежной матерью она была.
Теперь, лежа в бомбовой воронке на рыхлой земле, он даже не удивился, когда из бурой кирпичной пыли над ним прояснилось ее лицо, и она наклонилась еще ближе, так, что он ощутил ее дыхание, и сказала тихо и ласково:
— Мой отважный...
...Дивизия вышла на заданный рубеж и мощным контрударом отбросила фашистов от Котлубани и разъезда 564-го...
Рубен не чувствовал, когда бойцы подняли его и бережно понесли зачаженной степью в сторону Власовки. В маленькой комнате госпиталя над ним склонились врачи.
Медицинская сестра Галя Ганьшина отдала ему свою кровь. Он сразу почувствовал себя лучше: дыхание стало более глубоким, взор прояснился, резче ударил пульс.
За свою недолгую жизнь Галя видела много раненых, но этому она удивилась. Словно не чувствуя боли, смуглый красивый юноша улыбался. У него была мечтательная улыбка, от которой лицо становилось светлее. И откуда было Гале знать, что Рубен шел в эти минуты знакомой солнечной долиной Соморростро, и видел близко свой шахтерский домик, и слышал песню отважного Аррараса, веселую песню басков, славящую жизнь?
ПЛАТАНОВЫЙ ЛИСТ
А через год е небольшим в далекой зауральской деревеньке учитель сельской школы имени солдата Корочкина, инвалид войны, Янка Клавич принял от почтальона необычное письмо. Конверт был в наклейках и в печатях, примятый и потертый, с двумя адресами: по-русски и по-испански. Как видно, долго пришлось ему странствовать, этому письму, пока оно добралось до адресата.
Янка взглянул на конверт и уронил костыль, В полной растерянности он выглядел слабым и жалким.
Дед-почтальон спросил сочувственно:
— От Аннушки?
Янка часто получал от нее письма и каждый раз шумно ликовал, уверенный в скорой встрече, а сейчас ои нахмурился и побледнел, и руки его тряслись, когда он открывал конверт.
В конверте Янка нашел засушенный лист платана.
Был он широкий, крепкий, с телесно-плотной кожей, в линиях и прожилках, словно ладонь руки.
Роса писала:
«Я получила ваше письмо, далекий товарищ... У вас достаточно горя, и не нужно слов о моем. Этот лист вложите в венок моему другу: ему был дорог наш старый платан».
Янка осторожно вложил лист в свою аккуратно переплетенную госпитальную тетрадь и стал собираться в дорогу. Почтальон спрашивал его о чем-то, но Янка не слышал.
Хозяйка встревожилась. Пришли соседи. Потом явился директор школы. Они пытались отговорить Клавича: здоровье у него слабое, а дорога так далека.
Янка сказал:
— Есть такое высокое слово — долг.
Бригадир колхоза, тоже фронтовик и тоже израненный. понял Клавича и поддержал. Он сам запряг Серого и доставил учителя на разъезд. Никаких вещей у Янки не было, а тетрадь с листом платана он хранил на груди.
В город у раздольной Волги Клавич добрался в начале весны. В нетопленном вагоне ему досталось от сквозняков, но Янка крепился. Фронт уже откатился далеко на запад, а над черными хребтами руин, над застывшей агонией железа и камня хлопотали строительные бригады.
Янка нашел могилу и увидел на ней груду свежих венков. Тут он растерялся. «Не мало ли этого, друг-баск... .платановый лист?» Но он сказал себе: нет, не мало. И он вложил лист в скромный солдатский венок.
На одной из лент он прочитал:
«Когда вы разгромите фашизм и красное знамя пролетариев будет реять над Берлином, я буду знать, что на этом знамени и капля крови моего Рубена».
Тут Янка опомнился и снял ушанку. Это писала мать. И вдруг он почувствовал, что должен сказать Рубену свое слово. Потому, что знал его лучше, чем другие. Потому, что они сражались рядом. Он припал на колено, и ветер растрепал его жидкие волосы.
— Это я, Рубен, я... — прошептал Клавич. А больше у него не было слов.
Он торопливо стал шарить по карманам, отыскал огрызок карандаша, взял край светлой ленты, бережно расправил ее на ладони.
Вот что показалось ему самым значительным, что стоило сказать о друге, мысль, которую высказал сам Рубен. Строгим учительским почерком Янка па писал эти четыре слова:
«Он шел впереди судьбы».
Ветер дул из-за Волги, упругий и свежий, пахнущий первым талым снегом, ростепелью, предвестием пег им. Где-то в нагромождениях развалин вперебой стучали молотки, волнисто позванивали пилы, посвистывал автоген.
* **
...В редакцию районной газеты в небольшом зауральском городке зимой 1952 года пришел из села мальчуган. Сначала он внимательно рассматривал дверь со стеклянной табличкой «Секретарь», потом, сняв шапку, протиснулся в кабинет, достал из-под фуфайки большую потрепанную тетрадь и положил на стол. Угол обложки надломился, и мальчик тут же осторожно поправил его; он словно бы лишь теперь заметил пожилого человека за столом, выпрямился и сказал:
— Здравствуйте...
Секретарь не спал почти всю ночь — выпускал газету, и чувствовал себя усталым.
— Ну, здравствуй, сокол. Наверно, стихи? — спросил он без интереса.
— Нет, — сказал мальчик. — Это тетрадь нашего учителя, а называется — Конспект Жизни.
Секретарь приподнял обложку, пробежал глазами страницу.
— Испания?.. Да, братец, далеко. Он что же, географию преподает, ваш учитель?
— Историю, — сказал мальчик. — А тут, в тетради, про дружбу, про войну.
— Кстати, про дружбу, — усмехнулся секретарь.— Ты к печке присядь поближе, обогрейся. Знаешь, сколько сегодня градусов на дворе-то? Двадцать четыре! А сколько километров ты прошагал?
Мальчик внимательно разглядывал свои озябшие руки.
— Четырнадцать. Это если напрямик.
— Ого, четырнадцать! Я. думаю, что учитель не должен был бы по дружбе тебя, малого, в такую стужу в город посылать.
Мальчуган смущенно улыбнулся,
— Так он и не посылал. Это наш пятый «А» меня выбрал. Наш пятый «А» имени Рубена Ибаррури по истории самый первый.
— Имени Рубена Ибаррури? — переспросил секретарь. — Что же, у нас все классы носят высокие имена?
Паренек взглянул на него удивленно: «Вот, мол, непонятливый», — и терпеливо объяснил:
— Все не могут быть лучшими. Так не бывает. Есть у нас класс летчика Гастелло, есть генерала Черняховского, есть Александра Матросова. А теперь, после каникул, будет и класс учителя Клавича. Ну, это еще нужно заслужить,
— Вон как!.. — удивился секретарь. Неожиданно разговор с мальчонкой показался ему занятным, — Класс имени вашего учителя? Кто это придумал, не он ли сам?
И снова мальчик взглянул на него так, словно хотел сказать «вот непонятливый!» — но только вздохнули промолчал.
— Да, интересные у вас там дела, — молвил секретарь, листая пачку газетных гранок, — Выберем время, наведаемся. Ты передай своему учителю, малыш, что Испания, — это, конечно, интересно, только у редакции есть темы поконкретнее: очистка семенного фонда, ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
— Я ничего не передам ему, — строго сказал мальчик, Он отвернулся и стал смотреть в окно.
— Э, да ты, парень, обидчив, — усмехнулся секретарь. — Ну, понимаю, ты человек избранный, командированный и должен отстаивать известные интересы... Однако что же мы будем так далеко примеры мужества искать, в Испании? Разве нет их, примеров, поближе?
— Я ничего не передам ему, — повторил мальчик. — Он умер.
Секретарь несколько растерялся, отложил гранки, стал закуривать:
— И что же он, завещал передать эти записки редакции?
Вопрос для мальчугана был неожиданный, и он помедлил
с ответом: стоял и смотрел, как пожилой мужчина за столом неторопливо листал тетрадь.
— Я думаю так, что завещал, - с трудом выговорил мальчик. - Он был добрый. У него не было никого ни отца, ни матери, - никого! Только школа... Он приехал к нам прямо из госпиталя, и мы его любили. От него мы узнали и Рубена, и Аррараса, и Корочкпна, и Росу, Да, из этой тетради узнали. Значит, завещал?
— Ладно, — решил секретарь. — Тетрадь можешь оставить. Наведайся при оказии. Может, машина будет из района и город, машиной и приезжай.
Школьный ходок, видимо, не понял, что разговор окончен, и продолжал стоять у стола. Он напряженно думал о чем-то, и порывался сказать, и не находил слов. А человек за столом, усталый и внешне строгий, не был сухарем: из далекого, сложного и ясного мира школы на него вдруг повеяло теплынью детства, давно пережитым волнением первых радостей и узнаваний. Он ободрил паренька:
— Ты посмелее...
— Надо, чтобы напечатали, — сказал мальчик. — Чтобы все люди про них узнали... Про Рубена, про Клавича, про Корочкина. Он же и записывал, учитель, для людей.
Мальчик приходил еще несколько раз, но в редакции всегда много дел, и они всегда неотложны. Потом он перестал приходить.
Секретарь все же не забыл маленького школьного посланца. Он навел справку о сельском учителе Клавиче и напечатал заметку.
Я разыскал ее в комплекте районной газеты за 1948 год. Заметка сообщала, что в сельской средней школе № 42 имени солдата Корочкина ребята преданно чтут героев Великой Отечественной войны, изучают их биографии и подвиги и что живой интерес к славным делам беззаветных воинов школьникам сумел привить бывший фронтовик, боевой соратник Рубена Ибаррури, учитель Я. Клавич, который был вдумчивым педагогом и, пожалуй, единственным в районе знатоком испанского языка.
Возможно, что, напечатав эту заметку, секретарь редакции счел свой долг исполненным и положил тетрадь на полку шкафа, чтобы возвратить при случае школьному ходоку. Но мальчик не пришел, и миновали годы, и секретарь сменился, а тетрадь все лежала на полке в шкафу среди старых гранок и ненапечатанных стихов. Ее нашли случайно, перебирая редакционный архив.
Я открываю картонную обложку. Титульная страница, серая и шероховатая, чиста, и на ней засушенная гвоздика. Она даже сохранила алый оттенок, но несколько сдвинулась в угол страницы, и я осторожно поправляю цветок.
Прочитав записи Клавича, я вижу, что нужно так же осторожно править в них и отдельные слова.
Скромный цветок, алый и чуточку золотистый, видится мне втиснутой в страницу бронзой, пролитой на серый мрамор.
Ты прав был, Клавич: книга, прочитанная мной, становится частицей и моей жизни. И не такое ли чувство испытывал и тот мальчонка класса «А» имени Рубена, шагая морозной, заснеженной дорогой в районный городок?

